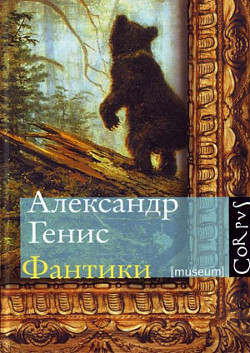считая ими каждую заполненную страницу. Легче не стало, но писать всегда тяжело, и облегчить бремя ужаса может только та наигранная безответственность, с которой быстро, как в наше вечно холодное Балтийское море, я вхожу в текст, делая вид, что ничего амбициозного на полях все равно не пишется.
3 марта
Ко дню рождения Юрия Олеши
Метафора опасна для автора. Чем она лучше, тем труднее судьба книги. В этом трагедия моего любимого Олеши. Открыв лучшую в нашей литературе “лавку метафор”, он не смог справиться со своим товаром. Его метафоры оказались так хороши, что повествование не лепилось, а рассыпалось на две-три строки, оправлявшие жемчужину. Например, так: “Я выпил холодной воды из эмалированной синей с белыми пятнами кружки, похожей, конечно, на синюю корову”. Или так: “Вся эта мешанина железнодорожных путей, сооружений, насыпей, далей, понятного и непонятного происходила в алом, вишневом свете заката. Мы были как в варенье”.
Олеша говорил: “Главное у меня – дар называть вещи своими именами”. Это, конечно, лишь часть правды, о чем и автор догадывался.
– В сущности, – с высокомерием мастера признался он однажды, – всё на всё похоже.
Олеша обладал другим свойством, которое Набоков считал важнейшим достоинством писателя вообще, а Гоголя – особенно: впрыскивать в текст сравнение, вызывающее магическое превращение. Когда Плюшкин предложил Чичикову ликер, тот увидал в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. В этой, казалось бы, бесхитростно наглядной метафоре отразился сам Плюшкин с его давно испортившейся душой, запертой в заколдованной бутылке.
Так и с метафорами Олеши. Они нужны не для того, чтобы узнать вещь, а для того, чтобы изменить ее. Высшее призвание метафоры заключается в том, чтобы стать метаморфозой. И каждый абзац Олеши являет читателю трансмутацию были в сказку, где, как у Шагала, синие коровы плавают в варенье заката.
Беда в том, что сюжету здесь делать нечего: метафора поглотила повествование, вобрала его в себя. И Олеша, всю жизнь мечтавший о новом романе, так и не смог его сочинить: “Все написанное мной оставалось лежать на столе, непокрытое, жуткое, как имущество индуса, умершего от чумы”.
Из этого бесхозного добра сложилась книга “Ни дня без строчки”. Любимая до обожания, она напоминает преждевременные руины. Портик прекрасных колонн, которые ничего не несут.
4 марта
Ко дню рождения Владимира Шинкарева
Митьковская живопись – отнюдь не наивное искусство. Напрасно мы будем искать у них инфантильную непосредственность. Примитивность их рисунка – результат преодоления сложности. Митек – не простак, а клоун, который тайком ходит по канату. Манера митьков – па-де-де с “Солнцедаром”. (Для чего, заметим, требуется уметь танцевать.) Творчество митьков – эстетизация неудачи, художественное воплощение ошибки. Их философия – сокровенная медитация над поражением. Митьки – национальный ответ прогрессу: не русый богатырь, а охламон в ватнике. Он непобедим, потому что его давно победили.
Полюбить митьков мне помогла картина, которую я купил у их идеолога Владимира Шинкарева. Из ядовитой зелени прямо на вас выходит растерянная корова. В ее глазах – не испуг, а туповатая безнадежность ни в чем не уверенного существа. Она не ждет помощи, она просто ждет, заранее готовая обменять знакомые тяготы жизни на незнакомые.
Показывая ее американским знакомым, я перевел название картины: “Коровушка заблудилась”. За чем последовал практический вопрос: “Ну а где же вымя?” Только тогда я заметил, что купил животное без половых признаков. Сперва я хотел потребовать, чтобы автор выслал вымя отдельно, но постепенно мне стало нравиться бесполое животное. Корова без вымени – как душа без тела: воплощенная эманация страха и трепета. Художник нарисовал не корову, а то экзистенциальное состояние заброшенности в мир, которое нас с ней объединяет.
Впрочем, Шинкарев, как настоящий митек, наверное, просто забыл нарисовать вымя. И именно его ошибка придала картине завершенность.
5 марта
Ко Дню отключения Интернета
Отмечая этот своеобразный праздник, я поклялся сутки воздерживаться от интернета и объявил ими-но хи – день удаления от скверны. Соблюдая этот синтоистский обычай, средневековые японцы надеялись избежать неизвестной беды. В такой день они не покидали дом, не принимали гостей и писем.
Готовясь к испытанию, я вспомнил, что еще недавно мы жили без интернета, не зная, чего лишены. К полудню, однако, я ощутил некоторую тревогу.
Почта осталась непроверенной, и я забыл предупредить своих обычных корреспондентов о том, что сам удаляюсь от скверны и им советую.
– Пусть, – упорствовал я, – мучаются, переживая за меня, друзья и родичи, пусть изнывают редакторы и издатели, пусть зря злопыхают враги, я все равно сохраню молчание.
Между тем кругом кипела жизнь. Что-то происходило прямо в этот момент. Кому-то я был нужен. Где-то разгорался скандал. Зачем-то ярился фейсбук [1]. О чем-то вопили многоголосые медиа. Только я ничего не слышал, не знал и не хотел, ибо, соблюдая день отдохновения от скверны, погрузился в нирвану.
Каждый, кто курил, знает, что табак не приносит счастья. Дело не в том, что с ним хорошо, а в том, что без него плохо. Именно так я себя чувствовал через день абстиненции.
На следующее утро до обидного быстро выяснилось, что мир не заметил моего в нем отсутствия. Никому не было до меня дела, если не считать нигерийской старухи, желающей оставить мне 100 миллионов, и одного поклонника, который, признавшись в любви, взамен требовал срочно прочесть его роман “Путин в потемках”. Утолив нужду первой затяжкой, я вернул себе способность рассуждать саркастически и трезво.
– Сеть, – говорил я себе, не выключаясь из нее, – внесла в нашу природу антропологические коррективы. Мы утратили часть индивидуальности, сдав ее напрокат интернету. Привыкнув быть его частью, мы стали пальцами одной неизвестно чьей руки. Наша жизнь не совсем наша. И полной она становится лишь тогда, когда мы включены в поле взаимодействия чужих воль, до которых нам, в сущности, нет никакого дела, но без которых день пуст, одинок и скучен.
6 марта
Ко дню рождения Габриэля Гарсиа Маркеса
Чтобы полюбить Маркеса, достаточно прочесть почти любую его книгу. Чтобы понять Маркеса, достаточно прочесть первую фразу лучшей из них: “Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед”.
Первое предложение романа служило паролем, по которому отделяли своих от чужих. Как бывает только с радикально новым, дерзкий дебют ладейной пешкой оторвал книгу от сопутствующих и соперничающих жанров. “Магическим” этот зачин делает чудо: лед. “Реализм” заключается в том, что чудом лед является лишь вблизи экватора. Не наивное техническое оправдание вымысла, свойственное научной фантастике, не еще более наивная безответственность пришедших ей на смену новых сказок “фэнтези”, а неразделимый на составные части сплав возможного с невозможным – в этом секрет мастерства, перед которым не могли