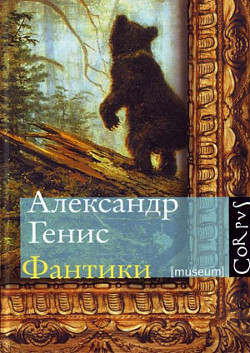его воспринимал.
На нет и суда нет, резюмирует Шопенгауэр и предлагает свой рецепт спасения: “Тот, кто погружен в это созерцание, уже не индивид, а чистый, не подчиненный воле, не ведающий боли, находящийся вне времени субъект познания”. В сущности, это – террористический гуманизм: чтобы не ведать боли, надо стереть того, кто способен ее испытать.
Шопенгауэр обладал, мягко говоря, скверным характером. Он всю жизнь злобно завидовал Гегелю и спустил с лестницы квартирную хозяйку. И все же я не могу спокойно читать это “жалкое место”, где Шопенгауэр кажется Башмачкиным от философии. Маленький человек, за которого страшно и обидно уже потому, что он один из нас. Шопенгауэр кажется мне философом, смертельно напуганным жизнью.
И за это я тоже люблю философов. Какую бы жизнь они ни вели – упорядоченную, как Кант, рискованную, как Сократ, чиновничью, как Гегель, или пьяную, как Веничка Ерофеев, – она неизбежно кажется эксцентрической, потому что все важное происходит в уме: сумо мыслей.
23 февраля
Ко дню рождения Казимира Малевича
Модернизм не отражал и не заменял, а сгущал реальность, выпаривая ее. И каждый из гениальных мастеров действовал по-своему. Пока художники творили новый мир на холсте или бумаге, включая нотную, они назывались модернистами. Когда их революционная активность выплескивалась из эстетической в социальную сферу, они становились авангардистами.
То, что у западного модерниста – художественный прием, у русского авангардиста – шаг на пути к тотальному преображению бытия. Путь от частного к общему, от арифметики к алгебре, от многих к одному у них назывался прогрессом.
Казимир Малевич несравненно радикальней Пабло Пикассо. Пикассо возвращал искусство к архаической, доисторической, пракультурной выразительности. Малевич вел искусство не назад, а вперед – в геометрическое царство интеграла. Супрематизм Малевича – яркая точка в долгом русском пути к утопии. Оттого и излучает такую энергию его черный квадрат, что в нем сконденсирован громадный социальный, художественный и философский опыт. Малевич сократил историю культуры до элементарного, но универсального квадрата – ведь природа не знает прямых углов. В этом суть не социального и не художественного, а антропологического переворота Малевича. История человека как венца творения завершилась. Началась история человека как творца – рукотворный апокалипсис.
Будетляне видели в Октябрьской революции лишь репетицию революции вселенской. Им мешали не частности общественного устройства, а неизбежная сложность социальной организации. Революция и художники не сошлись в вопросах масштаба. Неудивительно, что их любовь кончилась разводом. Коммунизм, быстро переболев детской болезнью левизны и расстреляв ее возбудителей, сам был не прочь включить себя в традицию. Тоталитаризм заимствовал у авангарда лишь страсть к упрощению. Утопия оказалась псевдонимом тривиальной диктатуры.
Провал социальных проектов авангарда – одна из обнадеживающих страниц страшной истории ХХ века. Кофейный сервиз с супрематистским дизайном – лучший символ этого блистательного поражения: вместо космической революции – революция косметическая.
24 февраля
Ко дню рождения Стива Джобса
Джобс сумел остранить компьютер, когда выпустил первый планшет. С подозрением относясь к любым несъедобным новинкам, я тем не менее сразу купил айпад, потому что увидел, как его продает сам Стив Джобс. Он светился от счастья, вертя в руках новое устройство и объясняя ее стати. Это была не реклама, а проповедь, и я не устоял. В коробке, которую мне сунули в магазине, не хватало инструкции.
– Незачем, – ответила девушка на мою претензию и оказалась права.
Айпад, гений простоты, доброты и привязчивости, занимает промежуточную ступень между одушевленным и неодушевленным миром. Как все любимое, он необходим и бесполезен, ибо не заменяет взрослый серьезный компьютер, в который я годами вколачиваю свою жизнь. Айпад – не для работы, он для просвещенного досуга. Я научился читать на нем книги, спасая балки, просевшие от тяжести библиотеки. Я приобрел картинную галерею, посетил полмира, узнал, что хотел, сфотографировал, что мог, и привык ничего не предпринимать без его совета.
Конечно, всего этого можно добиться и от обычного компьютера. Но хитрость планшета в том, что он превращает ученую машину в игрушку знаний. Она – праздник, который всегда с тобой: под боком, под мышкой, в дороге, в постели, за столом. Как будто у экрана выросли ноги, или, точнее, колёса.
Сам Джобс так и говорил: компьютер должен быть велосипедом для интеллекта. Важно, что не поезд, не автобус, не грузовик, а велосипед – индивидуальный, как зубная щетка, он везет вас скорее на прогулку, чем на работу.
Гений Джобса в том, что он отобрал компьютерную революцию у “физиков”, чтобы поделиться ее плодами с “лириками”.
24 февраля
Ко Дню независимости Эстонии
Вот здесь, – не выходя из-за стола, начала экскурсию Лиис, – всегда было бойкое место: перекресток с пятью углами. Именно тут Эстония впервые вошла в семью цивилизованных наций, ставших теперь Европой.
– Как? – с привычной завистью спросил я.
– На здешнем торжище пираты острова Саарема продали в рабство северного царевича, которого со временем выкупили на свободу и сделали королем Норвегии Олафом. Уже тогда здесь был свободный рынок, – добавила Лиис.
– Горячие эстонские парни.
– А то… – согласилась Лиис. – Поэтому датчане и отдали Эстонию немецким рыцарям за четыре тонны серебра.
– Один Лотман – дороже.
– Кто спорит.
За это надо было выпить, и мы подняли грубые кружки из рыжей глины с медвяным пивом.
– Тервесекс! – закричал я, враз исчерпав вторую половину своего эстонского словаря.
– “Терве”, – объяснила Лиис, – значит “здоровье”, а “секс”…
– Я знаю.
– Вряд ли, – засомневалась Лиис, – это суффикс.
– Так я и думал, – наврал я.
Готовясь к лингвистическим испытаниям, я всем говорил “тере”, но это не помогало: старые мне отвечали по-русски, а молодые на английском, ибо русского уже не учили.
– Чего ты хочешь, – вздохнул мой друг-философ, – ваша Балтика – оселок. Стимул Петра – бегство от бесформенности: обменять степь на клумбу, прислониться к границе и прорубить в ней не врата, а окошко.
– Скорее уж, – влез я, – форточку, если говорить об Эстонии.
Не то чтобы она такая маленькая, Голландия – меньше, не говоря об Израиле. Просто мы про эстонцев мало знаем. Как писал Яан Кросс, чтобы вывести эстонцев из “состояния безымянности”, понадобился шахматный гений Пауля Кереса. Бабушка, правда, еще любила Георга Отса, а я – Юло Соостера, чья синяя рыба (сама себе тарелка) ждала меня на выставке посреди Кадриорга.
Путь к нему отмечал знак “Осторожно, белки”, и я переложил бумажник в боковой карман. В парке стоял камерный президентский дворец легкомысленного – розового – цвета. Власть сторожили три тощих льва на гербе и два румяных солдата. Я сфотографировал их всех и порадовался тому, что эстонская независимость в надежных руках и лапах.
27 февраля
Ко дню рождения Элизабет Тейлор
Прежде всего, она была красивой. Операторы любили ее безукоризненно симметричное лицо. Как классическую скульптуру, Тейлор можно было осматривать – и снимать – в любом ракурсе. Ей шел любой костюм, любая прическа, любая роль. Она покоряла зрителя еще до того, как он успевал познакомиться