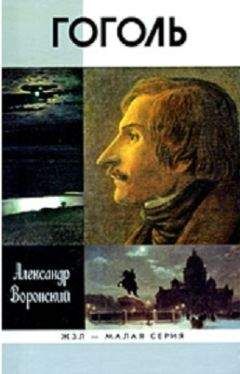Он рассказывает:
— Приехал я в имение с Лидой. Мать у неё, Анна Павловна — прелюбопытнейшая помесь крепостницы с социалисткой. С дрожью в голосе и со слезами вспоминает вечерами о народовольцах, о первых социал-демократах, и на другой день просыпаешься от её зычного крика. Выглянешь в окно — стоит она на крыльце с засученными по локоть рукавами, руки красные, мясистые, дебелая, грузная, словно идолище, орет басом на всё имение: «Машка, Парашка, Дунька, куда вы, проклятые, все запропастились, дармоедки, шлюхи гулящие!» Пыль столбом стоит от её ругани. В селе, бывало, слышно, а село за версту.
Боялась она всего больше поджогов мужицких — мужички изрядно кругом жгли именья — и ещё боялась ос, пчёл и шмелей. Как только привяжется за чаем или за обедом пчела — Анна Павловна выскакивает из-за стола, начинает визжать тонким-претонким голоском, — и бас у неё в это время пропадал, — замахает руками, глаза выкатит, а потом еле дышит, успокоительное принимает. Посылала нас ометы и скирды у риги караулить: «Валек, иди-ко ты, посмотри там за гумнами. Вон у Петрово-Соловова и у Унковских поджигателей намеднись поймали. Да, чтоб не скучно было, Лидушку прихвати».
— Анна Павловна, — говорил я ей, — как будто не пристало мне, социалисту, охранять частную, да ещё помещичью, собственность.
Серчала:
— Молчи ты, желторотый! Что ты понимаешь! Ты наших мужиков не знаешь: сиволдаи, звери, лентяи они. Вор на воре сидит.
— Вы же недавно наставляли меня, Анна Павловна, — называли мужиков народом-мучеником.
— Это, — отвечала она мне обыкновенно, — это одно, а гумны от мужиков охранять надо: не ровен час — подпалят, как свеча сгоришь. Приходили ко мне для три тому назад от общества из Хорошавки. «Очень, — говорят мне, — мы вам и даже премного благодарны, Анна Павловна, заместо сестры старшей вы нам, а только лучше вам в город осенью переехать: сами знаете, народ у нас тёмный, неграмотный, прямо сказать, аховый, страшный народ: как бы чего худого не приключилось. Спалим усадьбу, беспременно спалим…» Вот как они сами о себе толкуют, и ты, пожалуйста, не перечь мне. Иди-ко с Лидушкой, покарауль скирды.
Мы и шли.
— Принципиально это совершенно недопустимо, — заметил я Валентину.
— Разумеется, недопустимо. Пожалуй, за такие дела из партии могут выгнать, как ты думаешь?
— Выгонят — не выгонят, а замечание сделают.
Нас обогнала большая лодка, переполненная людьми.
— Должно быть, наши, — сказал Валентин, приподнимаясь и вглядываясь в тёмные силуэты.
Зачем-то он направил лодку к берегу, где плотная громада деревьев уронила чёрную, сплошную тень в воду, закурил папиросу. На миг осветилось его похудевшее бледное лицо, припухлые, ярко-маковые губы, волнистые кудри из-под фуражки.
— Конечно, не в собственности тут дело было. Как это в стихах говорится: «Очи милые мне светят в темноте из-под тёмных, из-под бархатных ресниц». А ничего не вышло.
— Почему?
— Не знаю, неизвестно. Бурса, что ли, мешала, застенчивость наша бурсацкая, или ещё что-нибудь… Хочешь одного, а выходит другое. Язык несёт чушь какую-то: «Лида, не споткнитесь, здесь кочка», или: «Прочитали вы роман Мачтета? Прочтите — с демократической тенденцией» — и т. д. Однажды нарочно сходил в село, купил водки для смелости. Пил прямо из горлышка за ригой, без закуски, и тут же меня разморило, свалился я и уснул. На другой день чертовски голова болела. Потом возникли у нас размолвки. А тут Макар из Петербурга приехал.
Мы миновали железнодорожный мост. За мостом река делилась островом на два рукава. Мы взяли влево. Ещё глубже, ещё чародейней стал лес. Валентин снял фуражку, помочил голову.
— Имение Анны Павловны летом походило на дачу или на дом отдыха, куда приезжали поправляться революционеры, чаще всего социал-демократы. Приедет кто-нибудь, предъявит рекомендательное письмо, живёт недели две, месяц, а иногда и больше. Каждый раз, когда по ночам раздавался звон колокольцев, у нас думали, что едут жандармы или пристав с обыском, поднимался переполох, беготня. «Гости» летели сломя голову на зады, в парк, в лес, в поле, куда попало, рвали на бегу письма, литературу. Анна Павловна тогда превращалась в настоящего командира: «Эй, пусть Пётр запирает ворота… Сергей, беги за пруды… Лида, скажи этому… как его… рыжему, чтоб мигом летел и засел в пустырях. Валёк, уходи скорей, ради бога…» Уезжали «гости» так же внезапно, как и приезжали. Проснёшься утром, смотришь, соседняя кровать или диван — пусты: уехал. Скучно не было. Макар оказался видным партийным работником. Был он сухопар, с пристальными, глубоко запавшими и близорукими глазами; был оборотист, деловит, находчив, подвижен, обходителен, живал за границей, сидел в тюрьмах. С первых же дней он осторожно стал оттеснять меня. Он усвоил немного небрежную, покровительственную, снисходительную, правда, и товарищескую манеру обращаться со мной, — он умело и слегка подшучивал… Словом, вечерние свидания у риги прекратились. Бродя как-то по парку, я встретился у малинника с Лидой, она спросила меня, почему я её избегаю. Я ответил, что она, кажется, особой нужды во мне не чувствует. Она ответила: «Неправда, я очень хорошо отношусь к Вам. Будем опять вместе!» Я посмотрел на неё и кругом и увидел, что всё прекрасно. В это время из-за поворота показался Макар. Он мельком окинул нас взглядом, подошёл: «Вы словно влюблённые после объяснения». Мы смешались. Радость моя померкла.
Молча мы дошли до дома.
Вечером Лида гуляла с Макаром, за ужином старалась не встречаться со мной взглядом. На следующий день я с ней поссорился. Она сбивала мороженое у погреба. Я проходил мимо. Она попросила помочь ей. Я посоветовал:
— Обратитесь лучше к Макару.
Лида ответила:
— Это правда, он не грубит и не ведёт себя по-бурсацки.
— Вы сами были недавно в обществе бурсаков.
— Да, и жалею об этом.
— Вот как? — Я снял фуражку, помахал ей: — До свидания.
Я поднял вверх над водой вёсла, сказал Валентину.
— Валентин, Лида твоя — порядочная дурёха, по-моему.
Валентин ничего не ответил на моё замечание, продолжал:
— Затем я беседовал с Макаром. Он говорил со мной дружески. Что я намерен делать? Наступает осень. Сидеть в родном городе мне не следует: я уже на виду у полиции, размах работы в провинции узкий. Нужно поучиться, поработать в центре, где идёт настоящая борьба. Я соглашался с ним. Макар предложил: «Я дам вам явку в Петербург, в Центральный комитет; в акционерном обществе „Саламандра“ у меня есть приятель, он занимает там видное место и может дать заработок». Через два дня я уехал. Накануне отъезда я сидел в гостиной. Вошла Лида. Я сказал ей: