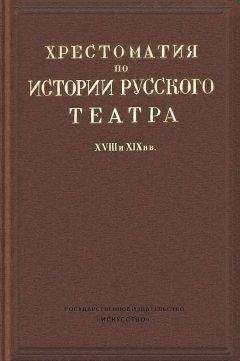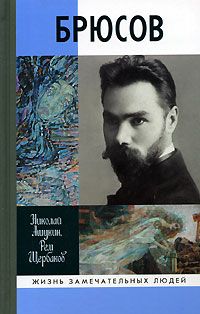Несмотря на эти недостатки, до искусства не относящиеся, Плавильщиков был талант во всем смысле слова и заслуживал вполне свою репутацию и уважение, которое к нему имели. В то время, когда по приезде моем сюда, в Петербург, я ознакомился с здешним театром и так близко сошелся с его начальством, я нередко говорил о Плавильщикове с князем Шаховским и удивлялся, как это дирекция оставляет такого человека заброшенным в Москве, тогда как он мог быть полезен в Петербурге не только для сцены, но и для театральной школы в качестве преподавателя декламации. Князь Шаховской прежде отшучивался от прямого ответа, а наконец как-то проговорился:
— Ну, что ты прикажешь делать с этим московским бригадиром? Живут привольно, своим домком, обленились и разбогатели, послушать их, так на нашей сцене хоть трава расти. Оно бы, конечно, лучше, да не в ноги же ему кланяться: «батюшка, Петр Алексеевич, пожалуйте к нам и пособите горю».
Из последних слов я заключил, что Плавильщикову были деланы предложения о перемещении его в Петербург, но что он отклонил их.
Никто не вправе требовать полной веры к своим суждениям, рассуждениям и особенно осуждениям без доказательств; а между тем, какие можно представить доказательства, когда дело идет о достоинствах или недостатках артистов сценических, сошедших с поприща сцены и жизни? Какие, повторяю, можно представить доказательства их искусства, когда это искусство не оставляет по себе памятников, никакого следа и умирает вместе с артистом? Это звук колокола, исчезающий в воздухе. Мне скажут: мнение современников; но мнение современников часто пристрастно и несправедливо; да и может ли быть основательно мнение в таком деле, которое зависит от вкуса, прихоти, степени образованности, образа воззрения ценителей артиста и чаще от их личных к нему отношений?
Вот почему, не имея данных, нельзя быть довольно осторожну и добросовестну в суждениях об умершем актере. Легко сказать: Шушерин был хороший актер, а Плавильщиков нет, или обратно; но на чем может быть основано такое суждение? На сказаниях таких-то и таких-то лиц? Но какую степень доверенности приобрели эти лица, чтобы им верить на слово? Для Николая Ивановича Кондратьева, известного своим фанатизмом к театру, Мочалов-отец был первым трагедиантом в свете, и ни Плавильщиков, ни Шушерин, ни Яковлев, по собственному его выражению, не годились ему в подметки. Будь этот Николай Иванович в высшем кругу знакомства, умей он приобрести доверенность к своему знанию и, главное, пиши он лучше, нежели писал он свои нелепые послания, то немудрено, что мы давно уж читали бы, что Мочалов был первый трагический актер в России и заткнул (как говорил он) за пояс Яковлева. Нет сомнения, нашлись бы люди, которые поверили бы биографии, напечатанной самовидцем, и вот приговор Яковлеву готов: суди потомство!
Ведь умели же напечатать, что Плавильщиков в роли Эдипа ползал на четвереньках, а Яковлев в роли Тезея произносил известные стихи: «Мой меч союзник мне» и пр. с неистовым криком, беснуясь и выходя из себя. Плавильщиков на четвереньках в роли Эдипа! Яковлев — сорвавшийся с цепи безумец в роли Тезея!.. Я видел Плавильщикова в Москве в роли Эдипа в два первые представления этой трагедии в 1805 году и был свидетелем, как он восхитил всех простотою и величественною игрою своею; да и мог ли играть иначе единственный в то время защитник простоты и естественности на театральной сцене? Правда, некоторые стихи, как то:
Храм Эвменид! Увы! Я вижу их: они
Стремятся в ярости с отмщением ко мне:
В руках змеи шипят, их очи раскаленны
И за собой влекут все ужасы геенны!
или в импрекациях сыну:
Тебя земля не примет.
Из недр извергнет труп и смрад его обымет!
произносил он с излишним одушевлением, чтобы не сказать горячностью, в чем извиняет его ситуация персонажа; но ползанья на четвереньках я не заметил, да едва ли заметил его и кто-нибудь из тысячи наполнявших театр зрителей. Видел я также, и не один раз, Яковлева в роли Тезея, и отступил бы от правды, если б решился сказать, что Яковлев был в ней дурен и бесновался без причины; напротив, Яковлев не любил этой роли и не мог любить ее, потому что она не согласовалась с его талантом, не заключая в себе развития ни одной страсти; а в тех ролях, которые были ему не по нраву, он играл без дальнего одушевления и старался только сохранить приличные им благородство и важность. Он уверял, что роль Тезея принадлежит по всему праву актеру Глухареву, обыкновенному его наперснику:
— Мужик большой, статный, красивый, — говорил Яковлев, — чем не Тезей? Ведь передал же я ему оперную роль Ильи-богатыря: там, по крайней мере, надобно сражаться с разбойниками да ломать деревья, а тут и того нет. Право, скоро заставят играть Видостана в «Русалке».
Во избежание таких же поверхностных Суждений о наших трагических актерах я поставил себе правилом говорить о них не по рассказам других, а на основании сделанных мною самим замечаний. Для совершеннейшего понятия об игре их надобно было бы сделать сравнение между ними в одних и тех же ролях и тех же сценах, в которых они преимущественно снискали себе репутацию; но я не в силах предпринять этот труд, да и к чему бы послужил он? Классическая трагедия более у нас не существует; это мертвая буква на нашем театре; следовательно, ни в примерах, ни в поучениях нет надобности. Если же для того, чтобы похвастаться памятью, в чем иные не оставят упрекнуть меня, то в том нет большого достоинства. Бесполезные знания не уважаются. Впрочем, вот несколько сцен, давно разобранных мною во всей подробности. Пусть этот сравнительный разбор послужит если не в поучение настоящим актерам нашим, то, по крайней мере, в защиту знаменитым их предшественникам и к удовлетворению любопытства немногих любителей старины.
Беру, например, некоторые сцены из роли Эдипа, которая прославила игравших ее в одно почти время Шушерина в Санкт-Петербурге и Плавильщикова в Москве.
Вот выступает на сцену Эдип — Шушерин:
Постой, дочь нежная преступного отца,
Опора слабая несчастного слепца, —
Печаль и бедствия всех сил меня лишили!
Эти стихи произносил Шушерин слабым, болезненным, совершенно изнемогающим голосом, едва-едва передвигая ноги и опираясь трепещущею рукою на Антигону. На слове всех он делал ударение и заметно возвышал голос, но затем тотчас же понижал его.
Плавильщиков входил, также опираясь на Антигону, но подходка его была несколько тверже, рука не трепетала и, по свойству своего органа, он говорил не так слабо, хотя печально и прерывающимся от усталости голосом, однако без признаков отчаяния, как человек, привыкший к своему положению.