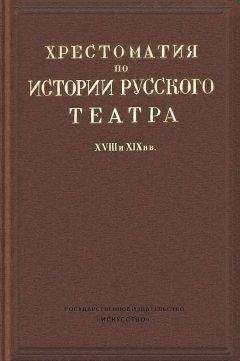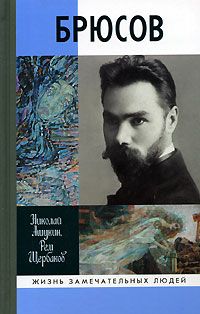Вот выступает на сцену Эдип — Шушерин:
Постой, дочь нежная преступного отца,
Опора слабая несчастного слепца, —
Печаль и бедствия всех сил меня лишили!
Эти стихи произносил Шушерин слабым, болезненным, совершенно изнемогающим голосом, едва-едва передвигая ноги и опираясь трепещущею рукою на Антигону. На слове всех он делал ударение и заметно возвышал голос, но затем тотчас же понижал его.
Плавильщиков входил, также опираясь на Антигону, но подходка его была несколько тверже, рука не трепетала и, по свойству своего органа, он говорил не так слабо, хотя печально и прерывающимся от усталости голосом, однако без признаков отчаяния, как человек, привыкший к своему положению.
Печаль и бедствия — всех сил меня лишили,
и на все последнее полустишие он делал сильное ударение.
Засим:
Видала ль ты, о дочь, когда низвергнут волны
Обломки корабля?..
и далее
Этим стихам придавал Шушерин какую-то грустную мечтательность, а последнее полустишие выражал так, как будто все происшествия жизни царственного страдальца вдруг, одно за другим, ожили в его воображении. Он не обращался к дочери с этим уподоблением себя обломку корабельному, но, погрузившись в грустную думу, как бы в полусне, тихо и медленно, с легким наклонением головы произносил:
Напротив, Плавильщиков, начитавшийся Софокла и не допускавший никакой мечтательности в роли грека Эдипа, передавал эти стихи очень просто, с чувством одной только печальной существенности, в буквальном их значении и уподоблении, обращаясь к дочери и как бы желая вразумить ее в истину этого уподобления:
При извещении Антигоны, что Эдип находится близ храма Эвменид, Шушерин, верный своему понятию о роли Эдипа, как изнемогшего и дряхлого старца, произносил известные стихи:
Храм Эвменид! Увы! Я вижу их: они
Стремятся в ярости с отмщением ко мне:
В руках змеи шипят, их очи раскаленны
И за собой влекут все ужасы геенны!
не вставая с места, с сильным восклицанием на первом полустишии: «Храм Эвменид!» а затем вдруг понизив голос и с содроганием протягивая вперед руки, как бы стараясь защититься от преследующих его фурий, отрывисто продолжал:
… Увы! я вижу их: они
Стремятся в ярости с отмщением ко мне, —
и опять, постепенно возвышая голос:
В руках змеи шипят, их очи раскаленны…
и, наконец, всплеснув руками, разражался отчаянным воплем:
И за собой влекут все ужасы геенны!
Но Плавильщиков играл эту сцену иначе: с страшным восклицанием «Храм Эвменид!» вскакивал он с места и несколько секунд стоял, как ошеломленный, содрогаясь всем телом. Затем мало-помалу приходил в себя, устремлял глаза на один пункт и, действуя руками, как бы отталкивая от себя фурий, продолжал дрожащим голосом и с расстановками:
… Увы!.. я вижу их… они
Стремятся в ярости… с отмщением ко мне:
глухо и прерывисто:
В руках — змеи шипят… их очи раскаленны,
усиленно:
в крайнем изнеможении:
и с окончанием стиха стремительно упадал на камень.
Гора ужасная, несчастный Киферон!
Ты первых дней моих пустынная обитель,
Куда на страшну смерть изверг меня родитель.
Скажи, пещер твоих во мрачной глубине
Скрывала ль ты когда зверей, подобных мне?
Это обращение к Киферону Шушерин обыкновенно произносил так: первые три стиха печально, несколько мечтательно, с горьким воспоминанием, делая ударение на словах ты скажи, а последний при возвышении голоса, с чувством сожаления о невольных преступлениях и как будто с ропотом на предопределение судеб, с сильным ударением на словах: подобных мне.
Плавильщиков же в обращении к Киферону Эдипа видел только выражение раскаивающегося преступника, справедливо наказанного богами и покорного их воле, а потому передавал все четверостишие в этом смысле. Голосом слабым, но решительным, без задумчивого мечтания и не придавая никакого постороннего значения стихам:
Гора ужасная, несчастный Киферон
………………………………………
Видала ль ты когда зверей, подобных мне?
произносил он так, как будто хотел сказать: «ну, есть ли на свете подобный мне злодей?», а не так, как разумел их Шушерин: т. е. «ну, есть ли на свете подобный мне несчастливец?»
Здесь кстати, вспомнить о Яковлеве. Он прекрасно читал в «Эдипе» все те стихи, которые наиболее казались ему поэтическими, и от обращения к Киферону бывал в восхищении; проклятия Полинику декламировал он мастерски, с слезами на глазах, и заставлял нас плакать. Между прочим, я живо помню, с каким глубоким чувством и с какой благородной греческой простотой произносил он два стиха:
Родится человек лет несколько поцвесть,
Потом — скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть!
и рыдал как ребенок.
По отъезде Шушерина в Москву комику Рыкалову, имевшему пристрастие к прежнему своему амплуа благородных отцов,[17] вздумалось сыграть роль Эдипа в свой бенефис. По этому случаю мы стали уговаривать Яковлева, чтобы, лучше он сыграл Эдипа, в том убеждении, что он произведет восторг.
— Благодарю за предложение, — отвечал он. — Этого только и недоставало мне: привязать седую бороду и надеть лысый парик! Пусть роль останется за Рыкаловым.
В самом деле, Яковлев имел какое-то отвращение от седых бород; даже в роли первосвященника Иодая он не хотел подчиниться обыкновению и играл ее в черной, как смоль, бороде.
Но возвратимся к «Эдипу».
До сих пор в сценах с дочерью преимущество, кажется, должно оставаться за Шушериным; но зато в сценах с Креоном и Полиником Плавильщиков, по мнению моему и многих театралов того времени, был превосходнее своего соперника, потому что в этих сценах требовалось от актера больше силы, увлечения и достоинства, которыми обладал он с избытком и чего Шушерину в классических трагедиях иногда недоставало. Эти сцены, конечно, и Шушерин играл прекрасно, потому что дурно играть не мог; талант его был безукоризненно ровен; он не падал, как Плавильщиков и особенно Яковлев, но зато и не восторгал никогда зрителей в такой степени, как восторгали последние. Вот Эдип — Плавильщиков в сцене с Креоном: он старался приблизиться, сколько позволяла ему слепота, к Креону, и с видом глубокого презрения и уверенности, что Креон способен на всякое постыдное дело, сначала глухим, прерывающимся голосом, а после постепенно возвышая его, произносил: