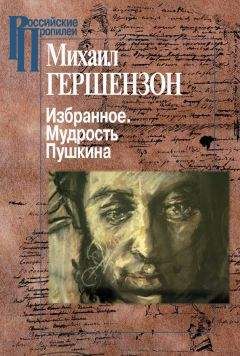Таково в главных чертах полное учение Чаадаева. Своеобразно преломившись сквозь призму славянофильства, оно воскресло затем, как идея вселенской теократии – у Вл. Соловьева, и как идея русской всечеловечности – у Достоевского. В какой мере учение Чаадаева непосредственно повлияло на Соловьева, – этого, за отсутствием положительных данных, пока решить нельзя; но никто не будет отрицать, что некоторые основные положения Соловьева – поразительно, до полного тождества совпадают с доктриной Чаадаева. Вот что писал Соловьев в 1883 году[428].
«Церковный принцип православного Востока есть неприкосновенность святыни, неизменность данной божественной основы. Принцип верный, но недостаточный… Мы должны заботиться о том, чтобы на благодатной основе Церкви воздвигалось здание истинно-христианской, не западной и не восточной, а вселенской богочеловеческой культуры. А для дела этого созидания с человеческой стороны необходимо не одно только сохранение церковной истины, но и организация церковной деятельности… Сохранение церковной истины было преимущественною задачей православного Востока; организация церковной деятельности под руководством единой и безусловно самостоятельной духовной власти являлась преимущественной задачей католического Запада. Мы решительно не можем допустить, чтобы эти две задачи исключали друг друга, чтобы одна мешала другой; напротив, и логическое рассуждение, и исторический опыт ясно показывают нам, что полнота церковной жизни требует одинакового внимания к обеим задачам».
Это не только мысль Чаадаева – это почти его слова.
Если в Соловьеве мы имеем преемство религиозной мысли Чаадаева, то столь же полно – и здесь уже заведомо непосредственно – перешла другая часть его учения в мировоззрение Герцена. Герцен усвоил мысль Чаадаева о своеобразном характере русской истории и о свойствах русского народа, устранив ее религиозное истолкование и переведя ее на позитивный, социологический язык. Следуя Чаадаеву, он признал за русским народом два великих преимущества перед западными: незасоренность психики («русский человек – самый свободный человек в мире») и возможность сразу использовать все культурное богатство, накопленное Западом. И далее он совершенно повторяет ход мысли Чаадаева об исключительном призвании русского народа и об особенном всемирно-историческом начале, которого этот народ служит хранителем, с той разницей, что этим палладиумом является у него не чистота христианской идеи (православие), как у Чаадаева, а бессознательный социализм (община); община и есть то сокровище, которое вынес из своего печального прошлого русский народ и которым будет спасено человечество.
Так мысль Чаадаева просочилась чрез Герцена в народничество, чрез Соловьева – в современное движение христианской общественности. О прямом заимствовании не может быть речи ни там, ни здесь, но преемственно оба эти движения во всяком случае восходят к учению Чаадаева.
В те самые годы, когда мировоззрение Чаадаева приняло свой окончательный вид, на глазах Чаадаева складывалось и формулировалось славянофильство. Исходя из иных основ, оно выставило те же два положения – о полном своеобразии русского народа и о его провиденциальной роли. Но это совпадение между обеими доктринами осталось совершенно формальным. Учение Чаадаева с учением славянофилов роднит не эта внешняя черта сходства, а тот общий им обоим дух, которым, между прочим, было обусловлено и это совпадение: общность навеянного с Запада умозрительного направления, тождество философско-исторических категорий, определявших самую постановку вопросов (всемирно-историческая точка зрения, идея нации и пр.). И точно так же, ни в одном из частных, хотя бы принципиальных разногласий между Чаадаевым и славянофильством нельзя видеть корень спора: он глубже их и все их обусловливает.
Мы видели: суждение Чаадаева о России – последнее звено строго-логической цепи, прикладной вывод из общего принципа. В 1847 году, как и в 1829-м, это суждение во всех своих частях обусловливалось основной религиозно-исторической точкой зрения Чаадаева; это был полный силлогизм, где первая, общая посылка определяла религиозную идею человечества; вторая, частная, устанавливала фактическое состояние России в прошлом и настоящем по отношению к той идее, и где, наконец, умозаключение определяло шансы и условия служения России той же идее в будущем. Чаадаев в 1829 году проклинал Россию за то, что она никогда не жила религиозной жизнью, и в 1837-м благословлял потому, что стал видеть в ней благодатную, нетронутую почву для Христовой жатвы; ее прошлое сначала казалось ему безотрадной пустыней, потому что оно не было одухотворено постепенным раскрытием религиозной идеи, и в этой же пустынности прошлого он потом видел ее преимущество опять-таки ради интересов религии и т. д.
Как известно, тот же фундамент подвели под свою систему и славянофилы – правда, довольно поздно, только в конце 40-х годов. Православием, как истинной верою, они мотивировали свое поклонение русскому народу, как носителю этой веры, и Хомяков выработал умозаключение, аналогичное Чаадаевскому, – что если вера, вложенная промыслом Божиим в русский народ, одна только вмещает в себе всю полноту истины, то мы должны дорожить благом и мыслью нашего народа, которые неизбежно хотя бы отчасти истекли из этого высшего начала. Таково было логическое построение славянофильства в его окончательном виде; но психологический процесс, приведший к нему, несомненно шел как раз в обратном направлении. Дело началось с чувства – с влюбления в русский народ, и кончилось доказательством, что русский народ – лучше всех других, так как он один, в православии, обладает истиной. Обыкновенная история: сначала «по-милу хорош», а потом уже «по-хорошу мил». Неотразимая критика Влад. Соловьева окончательно решила вопрос о взаимном отношении религиозного и национального элементов в славянофильстве. «Та доктрина, которая сама себя определила как русское направление и выступила во имя русских начал, тем самым признала, что для нее всего важнее, дороже и существеннее национальный элемент, а все остальное, между прочим и религия, может иметь только подчиненный и условный интерес. Для славянофильства православие есть атрибут русской народности; оно есть истинная религия, в конце концов, лишь потому, что его исповедует русский народ. Для одних из славянофилов требование быть православным или «жить в церкви» прямо входило как составная часть в более общее и основное требование: слиться с жизнью русской земли. В уме других эта зависимость религиозной истины от факта народной веры принимала более тонкий и сложный, но в сущности, столь же нерелигиозный образ». И конечный вывод Соловьева гласит: «в системе славянофильских воззрений нет законного места для религии как таковой, и если она туда попала, то лишь по недоразумению и, так сказать, с чужим паспортом»[429].