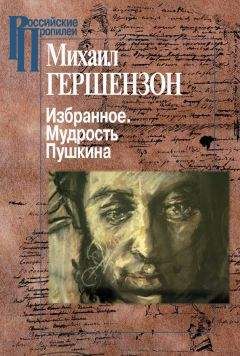Среди нескольких замечательных писем Чаадаева, которыми отмечены для нас последние годы его жизни, первое место бесспорно принадлежит тому письму 1847 года{258}, где он изложил свои мысли о «Переписке с друзьями». Историко-литературная оценка, которую Чаадаев дает здесь книге Гоголя, остается непревзойденной и доныне, как по верности в целом, так и по тонкости психологических наблюдений. Основная мысль этого разбора – та, что в недостатках книги виноват не сам Гоголь, а окружающая его среда, другими словами – славянофилы.
«Как вы хотите, чтоб в наше надменное время, напыщенное народною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтоб голова у него не закружилась? Это просто невозможно. Мы нынче так довольны всем своим родным, домашним, так радуемся своим прошедшим, так потешаемся своим настоящим, так величаемся своим будущим, что чувство всеобщего самодовольства невольно переносится и к собственным нашим лицам. Коли народ русский лучше всех народов в мире, то само собою разумеется, что и каждый даровитый русский человек лучше всех даровитых людей прочих народов. У народов, у которых народное чванство искони в обычае, где оно, так сказать, поневоле вышло из событий исторических, где оно в крови, где оно вещь пошлая, там оно по этому самому принадлежит толпе и на ум высокий никакого действия иметь уже не может; у нас же слабость эта вдруг развернулась, наперекор всей нашей жизни, всех наших вековых привычек и понятий, самым неожиданным образом, так что всех застала врасплох, и умных, и глупых: мудрено ли, что и люди, одаренные дарами необыкновенными, от нее дуреют! Стоит только посмотреть около себя, сейчас увидишь, как это народное чванство, нам доселе чуждое, вдруг изуродовало лучшие умы наши, в каком самодовольном упоении они утопают с тех пор, как совершили свой мнимый подвиг, как открыли свой новый мир ума и духа» (то есть мир до-Петровской Руси)[432].
При всем том нет никакого сомнения, что Чаадаев и славянофильство взаимно оказали друг на друга глубокое влияние.
Литературное наследство, оставленное нам Чаадаевым, представляет собою торс без головы и ног: утрачены первые его письма, где были изложены его априорные утверждения о Боге и человеке, и утрачены, очевидно, многие письма 40-х и 50-х годов, например к Тютчеву или И. Киреевскому, по которым мы могли бы ближе определить характер его основных практических пожеланий в связи с его окончательным взглядом на Россию. Не дошли до нас и письма славянофилов к нему[433]. Между тем, если не считать устных бесед, письма представляли собою, по цензурным условиям того времени, единственную форму, в которую могла облекаться его полемика с славянофилами. Таким образом, вопрос о его прямом влиянии на славянофильство и обратно может быть решен только в самом общем виде, да и то лишь предположительно. Именно, исходя от сущности того и другого учения, можно предполагать, что на развитие славянофильских идей должна была повлиять универсальная постановка религиозной проблемы у Чаадаева, тогда как Чаадаеву естественно было усвоить некоторые обобщения славянофилов в области русской истории. Первую догадку высказал П. Н. Милюков, говоря, что Чаадаев «едва ли не первый открыл славянофилам глаза на общую связь идей христианской исторической философии, а только в той связи православная религиозная идея получала всемирно-историческое значение»[434]. Наоборот, Чаадаев, как мы видели, свое новое истолкование православной религиозной идеи заимствовал, вероятно, у славянофилов. «Смирение», как отличительная черта «наших боголюбивых предков» на всем протяжении русской истории, и как результат влияния их религии, «глубоко пропитанной созерцанием и аскетизмом», – это чисто-славянофильские представления, органически вошедшие в систему идей Чаадаева.
Нам остается досказать историю личной жизни Чаадаева[435].
Приключение 1836 года было последним событием этой жизни. Нарушенное им равновесие скоро восстановилось и больше уже ничем не было нарушено до смерти Чаадаева, в 1856 году. Эти двадцать лет он прожил жизнью мудрых, жизнью Канта и Шопенгауэра, в размеренном кругу однообразных интересов, привычек и дел. Левашовы давно продали свой дом какому-то обруселому немцу; флигель, где жил Чаадаев, с годами пришел в полную ветхость, осел и покосился снаружи, но Чаадаев продолжал жить в нем до смерти, и все не мог собраться перекрасить у себя полы и стены, поправить печи. Он и лето проводил в Москве, и, говорят, за тридцать лет ни разу не переночевал вне города, хотя родные и друзья настойчиво приглашали его в свои подмосковные. Его обычное распределение дня было, вероятно, то же в 1855 году, что и в 1840-м. За день до смерти он обедал в том же ресторане Шевалье, о котором Герцен за десять лет до этого острил, что там сегодня подавали суп printanière, котлеты, спаржу и Чаадаева. И так во всем: та же верность Английскому клубу, те же споры и поучения в салонах Свербеевой, Елагиной, Орловой, тот же обширный круг знакомых, те же приемы у себя на Новой Басманной по понедельникам от часа до четырех. А жизнь понемногу уходила, как песок из стклянки песочных часов.
Чаадаев, без сомнения, глубоко таил горечь своей неудавшейся жизни, этой «смешной» жизни, как он однажды обмолвился уже незадолго до смерти; но нельзя сомневаться и в том, что минутами ему казался ясным провиденциальный смысл его существования, – и тогда освещалось и то странное дело, которое он делал. Он разговаривал и спорил – можно ли это назвать делом? Но любопытно, что современники, говоря о его словоохотливой праздности, незаметно для самих себя характеризуют ее как деятельность и даже как призвание. Вяземский называет Чаадаева «преподавателем с подвижной кафедры, которую он переносил из салона в салон»; Лонгинов говорит по поводу изящества его личности, одежды и манер: «Это изящество во всем было необходимо для той роли, оригинальной и трудной, которую суждено было ему играть в обществе, обращающем так много внимания на внешность».
Здесь сказалось инстинктивное впечатление, какое производила фигура Чаадаева на фоне московского образованного общества. Он не смешивался, не сливался с этим обществом – это сразу чувствовал всякий. Он был в нем как река, которая, вливаясь в море, сохраняет особый цвет своей воды. И каждый понимал, что это – не внешнее своеобразие, а естественная замкнутость чрезвычайно оригинального и личного мировоззрения, продуманного до конца и принятого бесповоротно. Чаадаев был не просто человек с убеждениями, а человек, без остатка сливший свою личность со своим убеждением. Эта-то сознательная цельность с одной стороны давала ему власть над обществом, с другой – сообщала его разговорам ту целесообразность и то единство, которые превращали их из салонной causerie в пропаганду. Сам Чаадаев играл свою роль не только серьезно, но даже торжественно, что дало повод Вяземскому сказать о нем: «Он был гораздо умнее того, чем он прикидывался. Природный ум его был чище того систематического и поучительного ума, который он на него нахлобучил»[436].