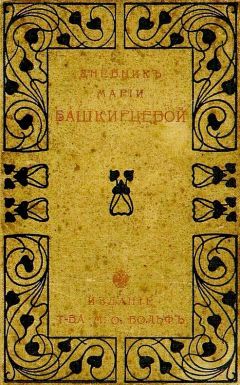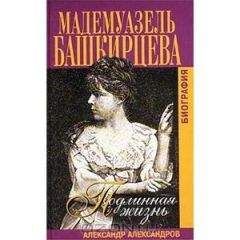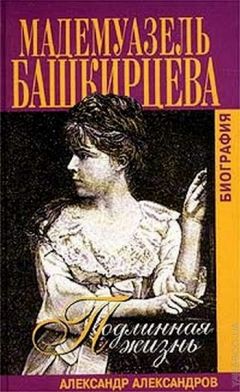— Как это глупо, что они не дали ей медали. Я нахожу, что эта картина безусловно удачна! — Он хотел бы сам написать мне, но это невозможно, он слишком страдает. Но несмотря на это, он решил выехать сюда, считая с сегодняшнего дня через восемь дней. Он просит архитектора передать мне его дружеские пожелания и поблагодарить меня за вышивку.
Год тому назад я была бы на седьмом небе от радости. Он хотел бы написать мне!. Но я радуюсь только… задним числом, потому что теперь это для меня почти все равно.
В конце его письма — тоже моя голова с почетной медалью за 1886 год.
Он будет тронут той деликатной манерой, которой я стараюсь в моем письме утешить его брата; письмо начиналось серьезно, потом шли «слова ободрения», и все это заканчивалось шутками; наиболее привычной для меня манерой разговаривать.
Среда, 25 июня. Перечтите мои тетради 1875, 1876 и 1877 гг. На что я там только ни жалуюсь; это постоянное стремление к чему-то неопределенному. Я сидела каждый вечер, разбитая и обессиленная этим постоянным исканием, что делать, со своей яростью и отчаянием. Поехать в Италию? Остаться в Париже? Выйти замуж? Взяться за живопись? Что сделать с собой? Уезжая в Италию, я не была бы уже в Париже, а это была жажда — быть зараз повсюду!! Сколько во всем этом было силы!!!
Будь я мужчиной, я покоряла бы Европу. В моей роли молодой девушки я расходовалась только на безумные словоизлияния и эксцентрические выходки…
Бывают дни, когда наивно считаешь себя способной ко всему «Если бы хватало времени, я была бы скульптором, писательницей, музыкантшей»…
Какой-то внутренний огонь, пожирает вас. А смерть ждет в конце концов, неизбежная смерть, — все равно, буду ли я гореть своими неисполнимыми желаниями или нет.
Но если я ничто, если мне суждено быть ничем, почему эти мечты о славе с тех пор, как я сознаю себя? И что означают эти вдохновенные порывы к великому, к величию, представлявшемуся мне когда-то в форме богатств и титулов? Почему — с тех пор, как я была способна связать две мысли, с четырех лет, — живет во мне эта потребность в чем-то великом, славном… смутном, но огромном?.. Чем я только ни перебывала в моем детском воображении!.. Сначала я была танцовщицей — знаменитой танцовщицей Петипа, обожаемой Петербургом. Каждый вечер я надевала открытое платье, убирала цветами голову и с серьезнейшим видом танцевала в зале, при стечении всей нашей семьи. Потом я была первой певицей в мире. Я пела, аккомпанируя себе на арфе, и меня уносили с триумфом… не знаю кто и куда. Потом я электризовала массы силой моего слова… Император женился на мне, чтобы удержаться на троне, я жила в непосредственном общении с моим народом, я произносила перед ним речи, выясняя ему свою политику, и народ был тронут мною до слез… Словом, во всем, во всех направлениях, во всех чувствах и человеческих удовлетворениях я искала чего-то неправдоподобно-великого… И если это не может осуществиться, лучше уж умереть…
Пятница, 27 июня. Мы собирались ехать кататься в Булонский лес, когда архитектор подошел к коляске: они приехали сегодня утром, и он пришел сказать, что Жюлю немного лучше, хотя он еще не может выходить. Ему бы так хотелось рассказать мне об успехе моей картины у всех, кому он показывал в Алжире фотографический снимок с нее.
— В таком случае мы навестим его завтра, — говорит мама.
— Вы не можете доставить ему большого удовольствия. Он говорит, что ваша картина… впрочем нет, он сам вам скажет, это будет лучше.
Суббота, 28 июня. Итак мы отправляемся в улицу Лежандр.
Он встает, чтобы принять нас, и делает несколько шагов по комнате; он показался мне как бы сконфуженным своей переменой. Очень изменился, о, очень изменился! Но он болен не желудком, я не доктор, но это видно по лицу. Я нашла его настолько изменившимся, что только и проговорила:
— Ну, вот вы и приехали.
В нем нет ничего отталкивающего. Он был тотчас же так мил, так дружелюбно, так благосклонно говорил о моей живописи, постоянно повторяя, чтобы я не заботилась о медалях и довольствовалась успехом.
Я смешу его, говоря ему, что болезнь пошла ему впрок, потому что он начинает теперь толстеть. Архитектор казался в восторге, видя своего больного таким веселым и милым… И, ободрившись, я становлюсь болтлива. Он посадил меня у своих ног, на длинном стуле… Бедные похудевшие ноги!.. Глаза, увеличившиеся и страшно ясные, спутанные волосы…
Но он очень интересен, и так как он просил меня об этом, я пойду еще раз.
Архитектор, провожавший нас до низу, также просил меня об этом. «Это доставляет такое большое удовольствие. Жюлю, он так рад вас видеть; он говорит, что у вас большой талант, ей-Богу…» Я так подчеркиваю его хороший прием, потому, что я очень довольна этим.
Но это, как бы материнское чувство — очень спокойное, очень нежное, и я горжусь им как силой.
Понедельник, 30 июня. Мне стоило таких усилий удержаться, чтобы не прорвать моего холста ударом ножа. Ни один уголок не вышел так, как бы мне этого хотелось. Остается еще сделать руку! А когда рука будет сделана, придется еще столько переделывать!!! Этакое проклятие.
И три месяца, три месяца.
Нет!!!
Я забавлялась, составляя корзинку земляники, каких обыкновенно нигде не увидишь. Я набрала сама, с длинными стеблями, настоящие веточки, и вместе с зелеными, из любви к краскам… и потом листьев… Словом, чудеснейшая земляника, собранная руками художницы со всевозможной изысканностью и кокетством, как когда делаешь вещь совершенно непривычную… И потом еще целая ветка красной смородины.
Я ехала так по улицам Севра и в конке, старательно поддерживая корзинку на воздухе, чтобы ветер обвевал ее, и не поблекли бы от жары ягоды, из коих не было ни одной с пятном или царапиной. Розалия смеялась: Если бы кто-нибудь из домашних увидел вас, барышня!
Возможно ли!.
Но это он своей живописью заслуживает моего внимания, а не своей особой. Но его живопись заслуживает всевозможного внимания!.. Так значить, это его картина будет есть землянику?..
Вторник, 1 июля. Опять этот ужасный Севр!
Но я возвращаюсь рано — к пяти часам. Картина почти кончена.
Но смертельная тоска мучит меня; ничто не идет у меня на лад.
До сих пор после дней самой ужасной тоски, всегда находилось что-нибудь, вновь призывавшее меня к жизни. О, Господи, зачем Ты допускаешь меня рассуждать! Мне так хотелось бы верить безусловно. Я и верю и не верю. Когда я размышляю, я не могу верить.
Но в минуты горя или радости — первая мысль моя обращена к Богу.