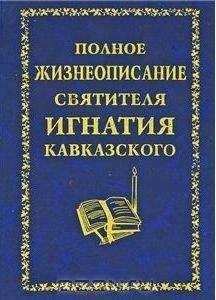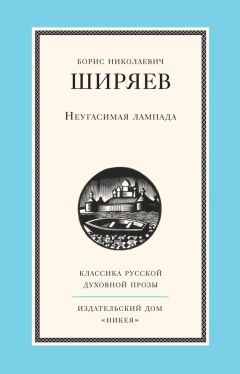В это же время митрополит Филарет, который сам был болен, велел передать Гоголю, что он просит его беспрекословно исполнять все назначения врачей, поскольку «спасение не в посте, а в послушании». Гоголь ответил, что вручает себя Божьей воле. Он на самом деле решил прекратить сопротивление. Дрожащей рукой он вывел черновик завещания:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отдаю все имущество, какое есть, матери и сестрам. Советую им жить в любви совокупно в деревне и, помня, что отдав себя крестьянам и всем людям, помнить изреченье Спасителя: „Паси овцы Моя!“ Господь да внушит все, что должны они сделать. Служивших мне людей наградить. Якима отпустить на волю. Семена также, если он прослужит лет десять графу.
Мне бы хотелось, чтобы деревня наша по смерти моей сделалась пристанищем всех не вышедших замуж девиц, которые бы отдали себя на воспитание сироток, дочерей бедных, неимущих родителей. Воспитанье самое простое: Закон Божий да беспрерывное упражнение в труде на воздухе около сада или огорода… Я бы хотел, чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились частые поминки по грешной душе моей… Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались… Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник».
Потом на длинных полосах бумаги он написал еще:
«А еще не будете малы, яко дети, не внидите в Царствие Небесное.
Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого креста.
Как поступать, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок».
В его окоченевших пальцах не было больше сил удержать гусиное перо. Он оттолкнул чернильницу. Теперь ему было ясно, что никогда больше он не сможет заниматься литературной работой. Но это его уже не волновало. Реальный, видимый мир потерял, наконец, всякое значение. Он повторял тихо и кротко: «Оставьте меня; мне хорошо». Он сидел в халате, не умывался, не расчесывал своих длинных волос, которые косо спадали ему на лоб, не подстригал своих усов. Чтобы убедить его принимать пищу, приходский священник являлся к нему ежедневно и нарочно первый начинал есть чернослив, кашу, убеждая его присоединиться к нему и есть вместе с ним. Больной неохотно, немного, но ел эту пищу; тут же он своей иссохшей рукой отталкивал тарелку. «Какие молитвы вам читать?» – спрашивал священник. «Все хорошо; читайте, читайте», – отвечал Гоголь еле слышно. В воскресенье приходский священник убедил его принять ложку клещевинного масла. Проглотив ее, Гоголь сморщился и заявил, что больше уже не будет принимать никакой пищи. Все окружающие были подавлены, им казалось, что это неестественная смерть, что они присутствуют при медленном самоубийстве. С точки зрения религии самоубийство является преступлением, а больной совершал это медленное самоубийство, якобы подчиняясь Божьей воле.
В понедельник на второй неделе поста духовник предложил ему приобщиться и собороваться маслом. Он с радостью согласился и выслушал все Евангелие в полной памяти. Он держал в руках зажженную свечу, и крупные слезы текли из его глаз. Вечером его попросили принять лекарство. «Оставьте меня! Не мучьте меня!» – закричал он. Кто ни приходил к нему, он не поднимал глаз, просил только по временам переворачивать его или подавать ему пить. Он старался оставаться в креслах. При том, что он желал смерти, он боялся лечь в постель, так как был убежден, что постель будет для него смертным одром. Однако силы его угасали, и он согласился наконец лечь на широкий диван. «Ежели будет угодно Богу, чтобы я жил еще, буду жив!» – пробормотал он, опуская голову на подушку.
Во вторник 19 февраля граф Толстой решил, что в борьбе со странной болезнью Гоголя первенство теперь будет принадлежать врачам, а не священникам. Теперь злых духов будут изгонять не с помощью веры, но с помощью методов современной науки; от идеализма перешли к позитивизму, от молитв – к микстурам. Явившись в дом графа Толстого, доктор Тарасенков увидел в передней комнате толпу почитателей таланта Гоголя, стоящих со скорбными лицами. «Что Гоголь?» – спросил он. – «Плохо, – сказал граф. – Ступайте к нему, теперь можно входить».
Гоголь лежал на диване в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. В руках он держал четки. Против его лица стоял образ Богоматери. Когда доктор Тарасенков взял его руку, чтобы пощупать пульс, больной произнес: «Не трогайте меня, пожалуйста!» Пульс был слабый, скорый, руки холодноваты, дыхание ровное. Вскоре к доктору Тарасенкову присоединились врачи Альфонский и Овер. По общему согласию решили, что необходим гипноз, чтобы покорить его волю и заставить принимать пищу. В тот же вечер известный гипнотизер, доктор Сокологорский, великолепный в своей спесивой самоуверенности, появился у изголовья умирающего. Он возложил ему одну руку на лоб, другую на живот под ложечкой, нахмурил брови, но флюиды не действовали. Почувствовав раздражение от таинственных пассов гипнотизера, Гоголь сделал движение телом и простонал: «Оставьте меня!» Оскорбленный доктор Сокологорский отказался продолжать эксперимент и уступил место коллеге, известному своей настойчивостью доктору Клименкову. Будучи сторонником решительных действий, он стал кричать с ним, как с глухим:
– Не болит ли голова? – Нет. – Под ложечкой? – Нет…
Расспросы не дали результата. Однако, врачам удалось заставить больного выпить чашку бульона и вложить ему, невзирая на его крики и стоны, суппозиторий из мыла.
На следующий день, 20 февраля, около полудня собрался консилиум врачей в доме графа Толстого: Овер, Эвениус, Клименков, Сокологорский, Тарасенков, Ворвинский. Шесть знаменитых врачей, светила медицинского мира, обсудив причины упадка сил и угнетенного состояния больного (напряженная умственная работа, совершенное воздержание от пищи, упорный отказ от лечения), пришли к выводу, что его сознание не находится в натуральном положении. Доктор Овер прямо поставил вопрос: «Оставить больного без пособий, или поступить с ним как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?» Доктор Эвениус тут же ответил: «Да, надобно его кормить насильно» После этих слов все врачи вошли к больному в комнату. Склонившись над Гоголем, они по очереди его расспрашивали и осматривали. «Его живот был так мягок и пуст, – напишет Тарасенков, – что через него легко можно было ощупать позвонки». Когда на все части его тела с силой давили, одолевали его нескромными вопросами, буравили проницательными взглядами, несчастный кричал и вырывался: «Не тревожьте меня, ради Бога!» Врачи, ставя диагноз, изъяснялись по-латыни: mania religiosa, gastro enteritis ex inanitione… Кто-то произнес даже слово «тиф». Доктора нахмурили брови. Звучали замысловатые ученые термины. Став мастером в искусстве доводить уродство до фантастических размеров, Гоголь с ужасом и отвращением видел себя жертвой этой бессмысленной суеты врачей у его постели. Мог ли он только представить себе в то далекое время, когда писал «Записки сумасшедшего», что на закате жизни будет испытывать те же муки, что и его несчастный и жалкий герой? «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею».[618]