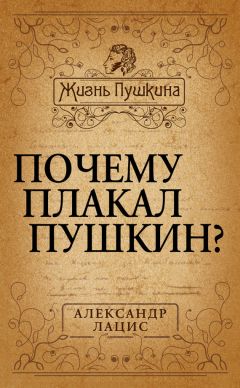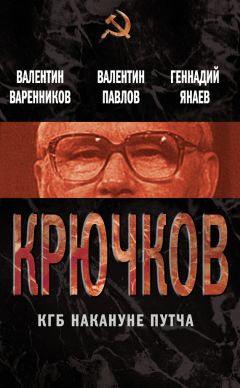Экспертиза была, но не одна. Последняя, ее выполнила С. А. Ципенюк, категорически отвергла утверждения предыдущего эксперта, усмотревшего сходство почерков П. В. Долгорукова и анонимных пасквильных писем. Интересующихся технологией экспертизы отсылаю к сборнику «Криминалистика и судебная медицина», выпуск двенадцатый (Киев, 1976).
Отложим графологию, займемся хронологией.
В марте 1860-го в Париже на французском языке выходит в свет «Правда о России, высказанная князем Петром Долгоруковым».
В 1861-м тот же памфлет печатается на русском и на немецком.
В июне 1861-го Долгоруков заочно лишается княжеского титула, прав состояния и приговаривается к вечному изгнанию.
Дальше начинается травля.
В конце 1861 года парижский суд на основаниях весьма сомнительных объявляет Долгорукова виновным в попытке шантажировать М. С. Воронцова, умершего… пять лет назад!
В январе 1862-го Герцен откликается в «Колоколе»:
«До нас доходят крики радости русской аристократической сволочи, живущей в Париже, о том, что, натянувши всевозможные влияния, им удалось получить какое-то бессмысленное осуждение князя Долгорукова».
В феврале 1862-го Долгоруков печатает нашумевшее открытое письмо Александру II.
Ответный ход был сделан в январе 1863-го. В России появилась брошюра А. Аммосова. Неизвестно, являлся ли Аммосов подлинным автором. Возможно, что это подставная фигура либо псевдоним. Так или иначе, Аммосов впервые в печати через двадцать шесть лет после гибели Пушкина выдвигает обвинение: пасквильный диплом сочинял и распространял Долгоруков. Об этом якобы рассказал соучастник, другой эмигрант, князь И. С. Гагарин.
Гагарин прислал опровержение. О Пушкине он пишет с максимально возможной ясностью:
«Я высоко ценил его гениальный талант и никакой причины вражды к нему не имел».
Иначе говоря, ищите того, кто а) не ценил, б) имел «причину вражды».
Однако издатель «Русского архива» П. И. Бартенев позволил себе в одном из примечаний процитировать наветы Аммосова.
П. Долгоруков отсылает в Москву письмо М. П. Погодину:
«В 8-м и 11-м №№ Русского Архива подлец Петрушка Бартенев уверяет, что или я или Гагарин писали безымянное письмо Пушкину.
Ведь знает меня этот подлец, знает, что это вещь невозможная, но клевещет в угоду моим врагам….Обвинение на Гагарина – также клевета».
С Гагариным подробно беседует Н. С. Лесков и приходит к твердому убеждению: Гагарин – безвинная жертва клеветы.
Двинув в печать версию о двух эмигрантах, власти нашли на кого свалить ответственность за гибель поэта, и свели счеты, не опасаясь несбыточной возможности обращения Долгорукова в суды Российской империи.
Между тем в 1874 году в одной из брошюр, изданных в Лейпциге, мелькнула здравая мысль:
«То, что подозрение в этих гнусностях открыто было высказано… в такое время, когда оба заподозренных жили в качестве политических изгнанников за границей, является обстоятельством, на которое нельзя не обратить внимания».
Почему же шитая гнилыми нитками версия по сию пору имеет хождение? Потому что наше сознание пустоты и неустойчивости не терпит. Нам куда удобнее самоуспокоенно твердить: «Скорее всего все-таки Долгоруков», – чем признавать, что истинный виновник не изобличен[6].
Печатая в издаваемом им журнале «Веридик» убийственные характеристики членам Государственного совета, Долгоруков о Киселеве отозвался относительно благоприятно:
«Здесь он ярко выделялся своими заслугами среди большинства ничтожных людей, которыми было переполнено это учреждение, самое высшее в России… Очень трудно управлять страной, где во всех официальных сферах сверху и донизу идут кражи, а ложь процветает снизу доверху, в которой правосудие, когда оно не служит орудием гнета в руках правительства, продается тому, кто дороже платит. Бюрократы… считают воровство своим неотъемлемым правом, своей священной собственностью, защищают эту собственность с ожесточением и считают государственными преступниками всех тех, которые требуют нового порядка вещей.
Подобная борьба, борьба ожесточенная, ежедневная, представляла громадные трудности даже для одаренного величайшей энергией человека: но у графа Киселева этой энергии нет; она заменяется у него очень ясным и тонким умом.
…Этот деятель, который, несмотря на свое звание генерал-адъютанта Николая I, хотел и сумел дать конституцию дунайским провинциям, сохранит почетное имя в истории этих провинций, а также в истории своей собственной страны».
После освобождения от турецкого владычества двух княжеств – Молдавии и Валахии – Киселев на протяжении пяти лет, с 1829 по 1834 год, был там наместником и ввел конституцию, именовавшуюся «Органический регламент».
Реформы Киселева высоко оценил Пушкин. Перед тем как записать в дневнике от 3 июня 1834 года, что Киселев «может, самый замечательный из наших государственных людей», Пушкин упомянул о совместном обеде: «Много говорили об его правлении в Валахии».
Что же касается П. Долгорукова – давно пора отрешиться от пренебрежения, подкрепленного сенсационными, но несерьезными экспертизами почерка. Куда весомее тот факт, что В. И. Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» одобрительно приводит его прозорливые отзывы о земских учреждениях.
Вернемся к оценке, данной Долгоруковым Киселеву:
«И вот в продолжении 18-ти лет можно было наблюдать странную и любопытную картину: честный министр стоял во главе воровского министерства….Без конституционного управления и свободы печати могут быть честные министры, но честное министерство быть не может. Он представлял собой странную смесь либерала и царедворца».
В последнем определении Долгоруков лишь перефразировал пушкинские стихи, которые тут же приводил. Строки поэта, написанные в 1819 году, наперед угадали, что в решительные минуты Киселев не возглавит революционные действия.
На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг Коварства и невежд…
…Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.
Мы умышленно опустили три строки, с тем чтобы представить их отдельно:
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его…
А ведь было что послушать! И в 1819 году, и в 1834-м.
Позднее Пушкин кое-что пересказал своему другу и наставнику Александру Ивановичу Тургеневу. Вот запись в дневнике Тургенева, сделанная за двадцать дней до гибели поэта: