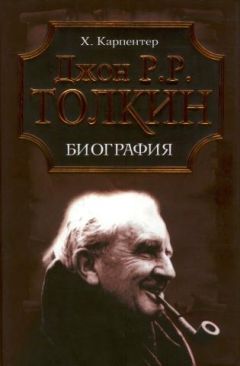В школе короля Эдуарда только двое наставников всерьез пытались преподавать английскую литературу. Один был Джордж Бруэртон, а второй — Р. У. Рейнолдс. «Дики» Рейнолдс, некогда работавший критиком в лондонском журнале, пытался внушить своим питомцам некоторое представление о вкусе и стиле. С Рональдом Толкином он не особенно преуспел: тот упорно предпочитал Мильтону и Китсу латинскую и греческую поэзию. Но, однако, должно быть, уроки Рейнолдса все же косвенно повлияли на Толкина, потому что в восемнадцать лет Толкин предпринял первые робкие попытки писать стихи. Написал он немного, и стихи эти были не блестящие: обычные юношеские опусы, ничем не лучше тех, что сочиняли многие его ровесники в то время. Единственный — даже не проблеск необычного, а только лишь намек на него — проявился в июле 1910–го, в стихотворении, где описывается лес. Стихотворение озаглавлено «Солнечный лес», и там есть такие строки:
Придите ко мне, легкокрылые эльфы,
Виденьям подобны и отблескам ясным,
Из света сотканные, чуждые горю,
Порхайте над буро–зеленым покровом.
Придите! Танцуйте, о духи лесные!
Придите! И спойте, пока не исчезли!
[Здесь и далее стихи в переводе С. Лихачевой, если не указано]
Лесные духи, пляшущие на лесном ковре, — довольно странная тема для восемнадцатилетнего юнца, страстного игрока в регби, поклонника Гренделя и дракона Фафнира. С чего бы Толкину вздумалось о них писать?
Возможно, отчасти это связано с Дж. М. Барри [Джеймс Мэттью Барри (1860—1937) — шотландский драмматург и романист, автор сказки–притчи о Питере Пэне, вошедшей в золотой фонд» детской литературы, а также ряда пьес с элементом Фантастики]. В апреле 1910–го Толкин посмотрел в бирмингемском театре «Питера Пэна» и записал в дневнике: «Это неописуемо, но я этого не забуду, пока жив. Жаль, что Э. со мной не было». Но возможно, еще большую роль тут сыграл католический поэт–мистик Френсис Томпсон. К концу своей школьной карьеры Толкин успел познакомиться со стихами Томпсона, а позднее сделался едва ли не специалистом по его творчеству. «Солнечный лес» сильно напоминает один из эпизодов в первой части «Песен сестры» Томпсона, где поэт видит на лесной прогалине сперва одного эльфа, а потом целую стайку лесных духов; но стоит ему шевельнуться, и они исчезают. Возможно, именно Томпсон пробудил в Толкине интерес к подобным темам. Но, каково бы ни было происхождение этого интереса, танцующие эльфы не раз встречаются в ранних стихотворениях Толкина.
Однако главной его заботой в течение 1910 года была подготовка в повторному экзамену на оксфордскую стипендию. Толкин старался уделять занятиям как можно больше времени, но вокруг было слишком много отвлекающих факторов, не в последнюю очередь — регби. Нередко он допоздна задерживался на грязной спортплощадке на Истерн–Роуд, откуда нужно было довольно далеко ехать домой, зачастую уже в темноте, подвесив позади к велосипеду мерцающую масляную лампочку. Иногда не обходилось без травм: в одном матче Рональду сломали нос, и он так никогда и не приобрел первоначальную форму; в другой раз Рональд прикусил себе язык, и, хотя рана зажила нормально, позднее именно ей он приписывал нечеткость своей дикции (хотя на самом деле он был известен невнятностью речи еще до того, как прикусил себе язык; его плохая артикуляция была вызвана скорее тем, что он хотел сказать сразу слишком многое, чем какими–либо физиологическими причинами. Стихи он мог читать — и читал — очень выразительно). Кроме того, немало сил он тратил на языки, как реальные, так и вымышленные. Во время весеннего триместра 1910 года он прочитал первому классу лекцию с внушительным названием: «Современные языки Европы: происхождение и возможные пути развития». Лекция растянулась на три часовых занятия, и то учителю пришлось остановить Толкина прежде, чем он успел добраться до «возможных путей развития». Довольно много времени уделял он и дискуссионному клубу. В школе существовал обычай вести дебаты исключительно на–латыни, но для Толкина это было проще простого: в одном дебате, в роли греческого посла к сенату, он вообще всю свою речь произнес по–гречески. В другой раз он ошарашил своих соучеников, когда, в роли варварского посланника, бегло заговорил по–готски; в третьем случае он перешел на древнеанглийский. Все это отнимало уйму времени, так что нельзя было сказать, что он непрерывно готовился к экзамену. Однако же, отправляясь в Оксфорд в декабре 1910–го, Толкин был куда более уверен в своих силах, чем в прошлый раз.
И на этот раз удача ему улыбнулась. 17 декабря 1910 года Толкин узнал, что ему дали открытую классическую стипендию в Эксетер–Колледже [Один из старейших колледжей Оксфордского университета]. Результат был не столь впечатляющим: получить стипендию высшего разряда ему не удалось, а эта открытая стипендия, рангом чуть ниже, составляла всего лишь шестьдесят фунтов в год. Однако и это было достижением не из последних — а благодаря выходной стипендии, полученной в школе короля Эдуарда, и дополнительным средствам, выделенным отцом Френсисом, Рональд мог позволить себе отправиться в Оксфорд.
Теперь, когда ближайшее будущее Толкина было обеспечено, ему больше не приходилось дни напролет корпеть над книгами. Но и на протяжении последних триместров в школе короля Эдуарда ему нашлось чем заняться. Он стал префектом [Староста класса], секретарем дискуссионного клуба и секретарем спортивной команды. Он прочел в школьном литературном кружке доклад об исландских сагах, проиллюстрировав его отрывками на языке оригинала. Примерно в это же время он открыл для себя «Калевалу» или «Страну героев», основное собрание финской мифологии. Вскоре после этого он с похвалой отзывался об «этом странном народе, этих новых богах, этом племени бесхитростных, низколобых и хулиганистых героев» и прибавлял, что «чем больше я читал, тем больше чувствовал себя дома в этом мире и наслаждался им». Он познакомился с «Калевалой» в переводе В. X. Кирби, изданном в учебной серии «Эвримен», и теперь решился при первом же удобном случае добыть себе издание в оригинале.
Летний триместр 1911 года был для него последним в школе короля Эдуарда. Триместр, как обычно, завершился представлением греческой пьесы с хорами, положенными на мелодии из мюзик–холла. На этот раз избрали «Мир» Аристофана. Толкин играл Гермеса. Потом спели государственный гимн на греческом (это была еще одна школьная традиция), и занавес школьной карьеры Толкина опустился. «Заждавшиеся родственники отправили школьного привратника меня разыскивать, — вспоминал Толкин много лет спустя. — Он доложил им, что я вынужден задержаться. «В данный момент он находится в центре внимания», — сообщил привратник. Весьма тактично с его стороны. На самом деле я только что закончил играть в греческой пьесе и еще не успел расстаться с гиматием и сандалиями. И отплясывал нечто, что казалось мне успешной имитацией бешеного вакхического танца». И вдруг все закончилось. Толкин любил школу, и теперь ему не хотелось расставаться с ней. «Я чувствовал себя как птенец, выброшенный из гнезда», — говорил он.