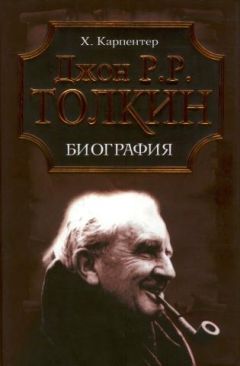Летний триместр 1911 года был для него последним в школе короля Эдуарда. Триместр, как обычно, завершился представлением греческой пьесы с хорами, положенными на мелодии из мюзик–холла. На этот раз избрали «Мир» Аристофана. Толкин играл Гермеса. Потом спели государственный гимн на греческом (это была еще одна школьная традиция), и занавес школьной карьеры Толкина опустился. «Заждавшиеся родственники отправили школьного привратника меня разыскивать, — вспоминал Толкин много лет спустя. — Он доложил им, что я вынужден задержаться. «В данный момент он находится в центре внимания», — сообщил привратник. Весьма тактично с его стороны. На самом деле я только что закончил играть в греческой пьесе и еще не успел расстаться с гиматием и сандалиями. И отплясывал нечто, что казалось мне успешной имитацией бешеного вакхического танца». И вдруг все закончилось. Толкин любил школу, и теперь ему не хотелось расставаться с ней. «Я чувствовал себя как птенец, выброшенный из гнезда», — говорил он.
Во время летних каникул он побывал в Швейцарии. Его с братом Хилари включили в группу, собранную семьей Брукс–Смитов. Хилари работал у них на ферме в Сассексе — он рано ушел из школы и посвятил себя сельскому хозяйству. Туристов было человек десять: супруги Брукс–Смит, их дети, Рональд и Хилари Толкин и их тетя Джейн, к тому времени овдовевшая, а также парочка незамужних школьных учительниц, подруг миссис Брукс–Смит. Они приехали в Интерлакен и отправились в горы пешком. Пятьдесят шесть лет спустя Рональд вспоминал об их приключениях:
«Мы шли пешком, с тяжелыми рюкзаками, по большей части горными тропами, практически всю Дорогу от Интерлакена до Лаутербруннена, оттуда в Мюррен, и закончили поход в глубине долины Лаутербрунненталь, среди ледниковых морен. Мы, мужчины, ночевали в суровых условиях, зачастую на сеновале или в хлеву, поскольку шли мы по карте и не заказывали мест в гостиницах. С утра мы довольствовались скудным завтраком, а обедали на природе. Потом мы, помнится, отправились на восток, через два хребта Шайдегге в Гриндельвальд, оставив Айгер и Мюнх по правую руку, и наконец добрались до Майрингена. Мне было ужасно жаль расставаться с видом на Юнгфрау и Зильберхорн, отчетливо вырисовывающийся на фоне синего неба.
Мы пришли в Бриг пешком. В памяти не сохранилось ничего, кроме шума: множество трамваев, которые гремели и визжали чуть ли не двадцать часов в сутки. Проведя там ночь, мы взобрались на несколько тысяч футов наверх, в «деревню» у подножия ледника Алеч, и провели несколько ночей в гостинице–шале, под крышей и в постелях — или, точнее, под постелями: «постелью», bett, у них назывался бесформенный мешок, в который надо было кутаться.
Однажды мы отправились в длинный поход с проводниками на ледник Алеч, и там я едва не погиб. У нас были проводники, но лето выдалось жаркое, а они то ли не приняли этого в расчет, то ли им было все равно, то ли мы поздно вышли… Как бы то ни было, в полдень мы шли гуськом по узкой тропинке, справа от которой был снежный склон, тянувшийся до самого горизонта, а слева — обрыв и пропасть. В то лето растаяло много снега, и обнажились камни и валуны, которые, по–видимому, обычно занесены. День был жаркий, снег продолжал таять, и мы с тревогой увидели, как некоторые камни, величиной от апельсина до футбольного мяча, а кое–какие и покрупнее, начинают катиться вниз по склону, набирая скорость. Они пересекали нашу тропу и обрушивались в пропасть. Поначалу они двигались медленно, а потом обычно катились по прямой, но тропа была неровная, так что приходилось еще и смотреть под ноги. Я помню, как шедшая передо мной туристка (немолодая учительница) внезапно вскрикнула и метнулась вперед, и через мгновение между нами, буквально в футе от меня, просвистел здоровенный камень. Колени у меня довольно немужественно затряслись.
Потом мы отправились в Вале, но тут мои воспоминания менее отчетливы. Однако я помню, как мы, грязные и оборванные, приплелись в Церматт и как французские bourgeoises dames [Дамы из буржуазии (франц.)] разглядывали нас в лорнеты. Мы взобрались с проводниками в хижину Альпийского клуба, обвязавшись веревками (а не то я бы свалился в расселину в леднике). Я помню ослепительную белизну заснеженных склонов, отделявших нас от черного пика Маттерхорна в нескольких милях оттуда».
Перед возвращением в Англию Толкин купил несколько художественных открыток. Среди них была репродукция картины немецкого художника И. Мадденера. Она называется «Der Berggeist», «Горный дух». На ней изображен старик, сидящий на скале под сосной. У него белая борода, на нем круглая широкополая шляпа и длинный плащ. Он разговаривает с белым олененком, который обнюхивает его протянутые ладони; лицо у него насмешливое, но добродушное. Вдали виднеются горные вершины. Толкин бережно хранил эту открытку. Много лет спустя он написал на листке бумаги, в который она была завернута: «Прототип Гэндальфа». Путешественники вернулись в Англию в начале сентября. Очутившись в Бирмингеме, Толкин принялся собирать вещи. В середине октября его прежний школьный учитель, Дики Рейнольде, у которого была машина, любезно предложил подвезти его до Оксфорда. И Толкин прибыл в Оксфорд к началу своего первого триместра в университете.
Въезжая в Оксфорд, Толкин уже решил, что ему здесь будет хорошо. Этот город он мог любить и чтить — не то что чумазый и унылый Бирмингем. Правда, его собственный колледж, Эксетер, на взгляд стороннего наблюдателя, отнюдь не затмевал красотою все прочие. Бесцветный фасад Джорджа Гилберта Скотта и часовня, безвкусная копия Сент–Шапель [Знаменитая готическая часовня в Париже, славящаяся своими витражами], и впрямь были ничем не примечательнее псевдоготического здания школы в Бирмингеме. Но зато в нескольких шагах оттуда раскинулся парк колледжа, где высокие серебристые березы вздымались выше крыш, и платаны с каштанами протягивали ветви через стену, на Брейзноз–Лейн и Радклифф–Сквер. А для Рональда Толкина это был его колледж, его дом, первый настоящий дом, который появился у него с тех пор, как умерла мать. Внизу, у лестницы, висела табличка с его именем, и стертые деревянные ступени с широкими черными перилами вели в его комнаты, спальню и простой, но уютный кабинет, окна которых выходили на узенькую Терл–Стрит. Это был идеал.
В 1911 году большинство оксфордских студентов происходило из богатых влиятельных семей. Многие принадлежали к аристократии. Именно на таких молодых людей и был в первую очередь рассчитан университет в то время. Отсюда — относительно роскошные условия жизни. В комнатах студентам прислуживали «скауты» (служители колледжа). Но, кроме богатых и знатных, были и другие — «бедные школяры», которые, возможно, бывали не так уж бедны, однако же и не особенно богаты и в университет попадали исключительно благодаря финансовой поддержке стипендий. Первые временами отравляли жизнь вторым, и, если бы Толкин (в качестве студента, происходящего из среднего класса) оказался в одном из более престижных колледжей, на него бы, вероятно, смотрели свысока. Но, по счастью, в Эксетер–Колледже такого социального расслоения не существовало.