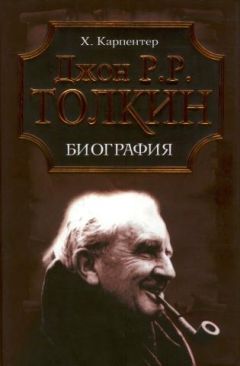В 1911 году большинство оксфордских студентов происходило из богатых влиятельных семей. Многие принадлежали к аристократии. Именно на таких молодых людей и был в первую очередь рассчитан университет в то время. Отсюда — относительно роскошные условия жизни. В комнатах студентам прислуживали «скауты» (служители колледжа). Но, кроме богатых и знатных, были и другие — «бедные школяры», которые, возможно, бывали не так уж бедны, однако же и не особенно богаты и в университет попадали исключительно благодаря финансовой поддержке стипендий. Первые временами отравляли жизнь вторым, и, если бы Толкин (в качестве студента, происходящего из среднего класса) оказался в одном из более престижных колледжей, на него бы, вероятно, смотрели свысока. Но, по счастью, в Эксетер–Колледже такого социального расслоения не существовало.
Толкину повезло и в том отношении, что среди второкурсников его колледжа оказалось двое католиков. Они его разыскали, чтобы удостовериться, что новичок устроился как следует. Потом он быстро обзавелся множеством приятелей, хотя с деньгами приходилось обращаться осмотрительно: ведь человеку с небольшими доходами не так–то просто соблюдать экономию в обществе, рассчитанном на вкусы богачей. Его «скаут» каждое утро приносил завтрак ему в комнаты, и для себя–то Толкин мог обойтись скромным кофе с гренками, но в Оксфорде было принято приглашать к завтраку друзей, а это означало, что придется заказать что–нибудь посущественнее. Ланч состоял из обычного «рациона» — хлеб, сыр, пиво, и его служитель тоже приносил в комнаты; но обедать все студенты колледжа обязаны были в столовой. Кормили там недорого, но за обедом было принято угощать приятелей пивом или вином, и, разумеется, от каждого ожидали ответного жеста. Так что, когда в субботу утром подавали «бэтл», то есть счет за содержание, студент мог обнаружить, что израсходовал многовато. А еще приходилось покупать одежду и кое–какую мебель в комнаты: колледж предоставлял только самое необходимое. Так что траты росли как на дрожжах, и, хотя оксфордские торговцы имели обыкновение предоставлять почти неограниченный кредит, рано или поздно платить приходилось. Год спустя Толкин писал, что у него скопилось «довольно много неоплаченных счетов», и добавлял, что «финансовые дела обстоят не блестяще».
Вскоре он с головой окунулся в университетскую жизнь. Он и здесь играл в регби, хотя в ведущие игроки команды колледжа так и не выбился. Греблей он не занимался, поскольку этот вид спорта в Оксфорде был уделом выпускников дорогих пансионов, но зато вступил в Эссеистский клуб и в Диалектическое общество. Толкин присоединился также и к «Степлдону», дискуссионному клубу колледжа; а для ровного счета основал еще и свой собственный клуб. Клуб назывался «Аполаустики» («посвятившие себя наслаждению») и состоял по большей части из таких же новичков, как он сам. Были доклады, дискуссии, дебаты; были также и шумные, роскошные обеды. На порядок выше, чем чаепития в школьной библиотеке, все это, однако, в сущности, представляло собой проявление того же инстинкта, что привел к созданию ЧКБО. Толкин и в самом деле лучше всего чувствовал себя в дружеском кругу, среди приятной беседы, густого табачного дыма (он теперь курил трубку, изредка позволяя себе дорогие сигареты) и в мужской компании.
В Оксфорде компания не могла не быть мужской. Правда, на лекциях бывали и девушки–студентки, но они жили в женских колледжах, мрачных зданиях на окраинах города; и к молодым людям их подпускали не иначе как под строжайшим надзором. Да молодые люди и сами предпочитали общаться друг с другом. Большинство из них только что покинули стены закрытых мужских пансионов, и чисто мужская атмосфера Оксфорда была для них родной. У них был свой собственный сленг, в котором все привычные слова сокращались и коверкались до неузнаваемости. «Breakfast» («завтрак») превращался в «brekker», «lecture» («лекция») — в «lekker», «Union» («союз») — в «Ugger», a «sing–song» («песенка») и «practical joke» («розыгрыш») — в «sigger–sogger» и «pragger–jogger». Толкин усвоил эту манеру речи и с энтузиазмом принимал участие в студенческих «проказах» («город» против «мантий»), которые были весьма популярны в то время. Вот как он вспоминал об одном из более или менее типичных вечерних развлечений:
«Без десяти девять мы услышали вдалеке крики и поняли, что началась заварушка. Мы выскочили из колледжа и на два часа оказались в самой гуще событий. Примерно час мы «доставали» город, полицию и прокторов [Надзиратель, инспектор в Оксфорде]. Мы с Джеффри «захватили» автобус и покатили на нем на Корнмаркет, издавая адские вопли, а за нами бежала обезумевшая толпа студентов и «городских». Не успели мы доехать до Карфакса, как автобус оказался битком набит студиозусами. Там я обратился к огромной собравшейся толпе с краткой, но прочувствованной речью. Потом мы вышли и пешком дошли до «маггерс–мемаггера» — мемориала Мучеников, — где я снова произнес речь. И за все это нам ничего не было!»
Такое поведение, шумное, наглое и хамоватое, было скорее свойственно студентам из высшего общества, нежели таким «бедным школярам», как Толкин, — большинство последних избегали подобных выходок и целиком посвящали себя учебе; однако Толкин был чересчур общителен, чтобы оставаться в стороне от забав. Отчасти поэтому он сравнительно мало времени посвящал занятиям.
Он изучал античную литературу и обязан был посещать лекции и консультации с наставниками, но в течение первых двух триместров после поступления Толкина в университет в Эксетер–Колледже не было наставника–классика, а к тому времени, как он наконец появился (это был Э. А. Барбер, хорошо знавший предмет, но преподававший его чересчур сухо), Толкин успел разболтаться и распоясаться. Латинские и греческие авторы ему надоели, и сейчас его куда больше влекла к себе германская литература. Лекции, посвященные Цицерону и Демосфену, его не занимали, и он всегда был рад случаю удрать в свои комнаты и заняться на досуге своими выдуманными языками. По–настоящему его интересовал лишь один раздел программы. Для углубленного изучения Толкин выбрал себе сравнительное языкознание, а это означало, что он ходил на семинары и лекции к Джозефу Райту, человеку поистине неординарному.
Джо Райт, йоркширец родом, был человеком, который действительно всего добился своим трудом. Невзирая на весьма скромное происхождение, ему удалось сделаться профессором сравнительного языкознания. Его с шести лет отдали работать на шерстобитную фабрику, и из–за этого он поначалу не мог выучиться читать и писать. Но годам к пятнадцати он стал завидовать своим товарищам по работе, которые читали газеты, и сам научился грамоте. Много времени ему на это не потребовалось, а желание учиться только разгорелось. Райт пошел в вечернюю школу и стал изучать французский и немецкий. Латынь и математику он выучил сам. Он просиживал за книгами до двух часов ночи, а в пять вставал на работу. В восемнадцать он счел своим долгом поделиться с ближними полученными знаниями и организовал вечернюю школу в комнате домика своей овдовевшей матери. За обучение он брал с товарищей по работе по два пенса в неделю. Когда Райту исполнился двадцать один год, он решил употребить накопленные сбережения на то, чтобы оплатить триместр обучения в немецком университете. Он сел на пароход до Антверпена, а оттуда пешком дошел до Гейдельберга. Там он заинтересовался филологией. И вот бывший фабричный подручный выучил санскрит, готский, старославянский, литовский, русский, древнеисландский, древнесаксонский, древне–и средневерхненемецкии и древнеанглийский. В конце концов он получил докторскую степень. Вернувшись в Англию, он обосновался в Оксфорде, где его вскоре назначили профессором сравнительного языкознания. Он смог позволить себе снять небольшой домик на Норем–Роуд и нанять экономку. Хозяйство он вел с бережливостью истинного йоркширца. К примеру, дома он пил пиво, которое покупал в маленьком бочонке, но со временем решил, что так оно чересчур быстро кончается, и договорился со своей экономкой Сарой, что бочонок будет покупать она, а он станет ей платить за каждую кружку. Райт продолжал непрерывно работать, взялся писать серию самоучителей по языкам, среди которых был и учебник готского, оказавшийся таким откровением для юного Толкина. А главное, он начал составлять словарь английских диалектов, который в конце концов был опубликован в шести огромных томах. Сам он так и не избавился от йоркширского акцента и по–прежнему свободно говорил на диалекте своей родной деревни. По ночам он до света засиживался за работой. Жил он в коттедже на две семьи, и в другой половине дома обитал доктор Нойбауэр, преподаватель талмудистской литературы. У Нойбауэра было плохое зрение, и он не мог работать при искусственном освещении. Поэтому, когда Джо Райт ложился спать на рассвете, он стучал в стенку, чтобы разбудить соседа, и кричал: «Доброе утро!» — на что Нойбауэр отвечал: «Спокойной ночи!»