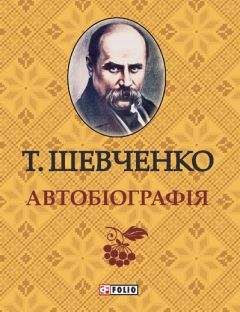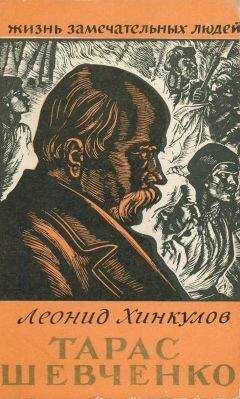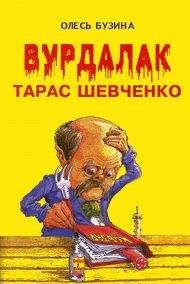Когда солнце подымется над бесконечным горизонтом и широкие тени спрячутся за кусты и пригорки, тогда я бережно укладываю мою работу в сумку и продолжаю свою прогулку в тени развесистых дубов и вязов. В одну из таких прогулок я нечаянно попал насовершенно рюисдалевское болото (известная картина в Эрмитаже), даже первый план картины с мельчайшими подробностями тот же самый, что и у Рюисдаля. Я просидел около болота несколько часов сряду и сделал довольно оконченный рисунок с фламандского двойника. Интересно было бы сличить его с знаменитой картиной. На другой день я сделал небольшой этюд с суховерхой старой ивы; хотел было сделать такой этюд и с полуусохшего старого береста, но на живой его половине не развернулась еще зелень, так я ограничился только одним остовом. И такой рисунок не пролежит даром места в портфеле доброго художника. Много еще нарисовал я верб и берестов в ожидании заветного воскресенья, или курьезной свадьбы.
В субботу вечером, возвращаясь в село, встретил я на плотине своего Трохима, гуляющего с безруким кавалером, с тем самым, что встретился мне на дворе у отца Саввы. И теперь, как и прежде, я не обратил на него особенного внимания и прошел мимо. Около квартиры догнал меня Трохим и без дальних околичностей сказал мне, что я ничего не знаю.
– А ты много знаешь? – спросил я его также фамильярно.
– А я знаю, что завтра будет свадьба, да еще знаете ли, какая свадьба? – прибавил он таинственно. – Тот самый пан, что мы видели на дороге и что заезжал сюда, тот самый пан женится на своей подданке, на той самой, что видели тогда в берлине и что ночевала у нас за стеной.
«Так вот где она – таинственная загадка! – подумал я. – И как все это просто и натурально, а мне-то сдуру и бог знает каким она неразгаданным сфинксом показалась».
– А кто этот кавалер, с которым ты гулял на плотине? – спросил я у Трохима.
– Он-то мне и рассказал всю эту историю, – отвечал Трохим.
– Да сам-то он кто такой?
– А я его и не спросил, кто он такой. Бог его знает, что он за человек. Отец Савва говорит, что он отставной солдат.
– Не матрос ли? – спросил я, прерывая длинноречивого Трохима.
– Нет, не матрос, а просто солдат, – на своем стоял невозмутимый Трохим.
– Хорошо, пускай будет и солдат, – сказал я и, не заходя в квартиру, как был с сумкою и с доходною дубиной, пошел навстречу моему амфитриону и его благоверной половине.
– А знаете ли, что я вам скажу? – кричала мне кузина издали.
– Буду знать, когда вы скажете, – отвечал я, приближаясь.
– Я завтра на свадьбе! – сказала она торжественно. – И к вам, как к артисту, обращаюсь с моей просьбою. Посоветуйте, как мне одеться так, чтоб было сообразно с ролью, которую я займу в этой комедии.
– Оденьтесь так, как вы всегда одеваетесь, – сказал я.
– Какой вы любезный артист, – сказала она и сделала самую пленительную гримасу. – Как всегда! Разве я каждый день играю роль посаженой матери? Растрепанный вы человек! – сказала она полушутя, полусерьезно и еще пленительнее улыбнулась.
– Вы, кажется, отказались от этой высокой чести? – сказал я в недоумении.
– Никак невозможно! Он пишет ко мне так убедительно, пишет так, что я не в силах отказать ему. Прочитайте, как он пишет. – И подала мне розовую раздушенную записку. Я повертел ее в руках, понюхал и отдал обратно. – Фу! какое ледяное равнодушие. Хотя бы на почерк посмотрел. А кто привез мне это розовое послание, так уж этого ни за что не скажу, – сказала она, бережно укладывая записку в ридикюль.
– Лакей или кучер, кому же больше, – сказал я наугад.
– Ошиблись, подымайте выше! Так и быть, не буду вас больше мучить. Сам родной брат невесты, какой-то отставной матрос. Я его не видала, сам не изволил подать письмо, а переслал от священника. Тоже гордость! Ну, как же я завтра оденусь? Добьюсь ли я от вас какого-нибудь совета или нет? – спросила она меня в ту самую секунду, как я вспомнил о безруком кавалере. Я сказал ей что-то невпопад и она захохотала самым непорочным девичьим смехом. Непорочный этот хохот толкнул меня на мысль самую лукавую, и я, оправившись, сказал:
– Оденьтесь вы завтра… это для вас ничего не значит. Оденьтесь вы завтра так, чтобы уничтожить и его красавицу невесту, и его самого.
– А самого-то как? – спросила она с волнением.
– Сделайтесь похожей на его дочь, вот и все!..
– И прекрасно! – прервала она в восторге. – Я сама то же думала. Это будет маленькая мистификация, не правда ли? – прибавила она, обращаясь к мужу, а тот в знак согласия кивнул головой и, глядя на меня, как бы говорил да и ты, брат, смиренник – штука препорядочная!
Довольная моим проектом, кузина позволила мне, не переодеваясь, пожаловать к ней на чай. Я повиновался и, следуя по стопам красавицы, думал чуть-чуть не вслух.
«Неужели вы, красавицы, так слепы, так удивительно слепы в отношении собственных прелестей, что, не говоря уже о морщинах, – седых волос у себя не замечаете?»
А это действительно так. Я совершенно убежден в этой горькой истине. Во времена оны, бывало, пригласят меня нарисовать портрет с какой-нибудь действительно почтенной матери семейства. Старушка благочестивая, богомольная, тихая, кроткая, вся в черном, лучшей модели не может быть для отшельницы готических времен: садись и рисуй без малейшей фантазии. Попробуй же нарисовать портрет этой отшельницы без малейшей фантазии, т. е. а ля Жерар Доу. Да тебе не только не заплатят – из дому выгонят как злейшего карикатуриста. Тогда и узнаешь, кто такая благочестивая отшельница.
Я долго переносил подобные неприятные приключения, пока не смекнул, в чем дело. Догадался, и пошло как по маслу! Простота-матушка.
Пишу я сию мою заповедь молодым друзьям моим, имеющим несчастие прокладывать себе художественную дорогу такими жалкими, такими горькими средствами.
В продолжение вечера кузина моя была, что называется, в своей тарелке: острила, смеялась и чуть-чуть не танцовала, как девчонка при одном слове о газовом платье и о какой-то еще невиданной в мире тюнике. Она до того была весела и любезна, что сделалась приторною и, наконец, несносною. Чужая радость вообще как-то нас мало радует, а несносная радость моей кузины меня просто бесила. Чтобы не быть безмолвным зрителем глупости и пошлости, я забрал свою мизерию и вышел, от ужина даже отказался. А после такой прогулки, как сделал [я] в этот день, это была большая жертва. С досады попробовал я заснуть, проба совершенно не удалась. Попробовал читать – еще хуже. Какую-то отвратительную скуку навеяла на меня кузина своей глупой радостью. Как безобразная каракатица, скука опутала меня своими гнусными ветвями и во всю ночь не давала мне покою. Что бы я ни вспомнил, о чем бы ни подумал, все скучно, все невыносимо, противно. Если английская хандра имеет хоть фамильное сходство с нашей русской тоскою, то я верю в возможность путешествия пешком в Камчатку, как это сделал какой-то лорд, да еще вдобавок и женился на дочери петропавловского пономаря. Свадьба, например, кажется, веселый, радужный предмет для размышлений? Попробуйте же вы размышлять о нем во время скуки. Да он вам покажется таким черным, таким гадким предметом, что вы и глаза закроете, а если вы уже с проседью, с лысиной и не женаты вдобавок, то лучше и не размышляйте о свадьбе. Тут вам полезет в голову и старость, и одиночество, и кончится тем, что вы на первой же попавшейся вам дуре возьмете да и женитесь во избежание одиночества. Правда, участь старого холостяка самая незавидная, но и участи старого мужа молодой жены нельзя позавидовать. По-моему, лучше доживать свой век старым холостяком, нежели окружить себя чужими розовыми крошками, а свою лысую почтенную голову украсить украшением, не внушающим ни малейшего почтения.