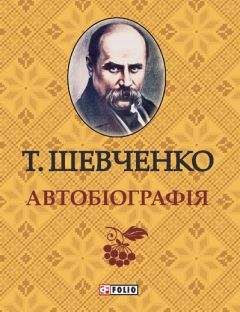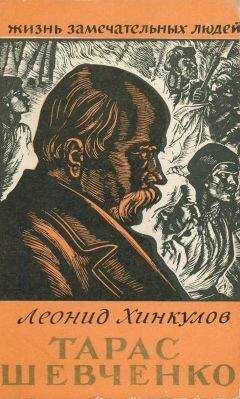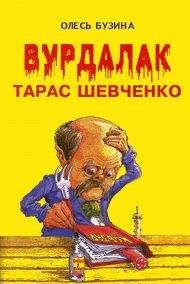Я долго переносил подобные неприятные приключения, пока не смекнул, в чем дело. Догадался, и пошло как по маслу! Простота-матушка.
Пишу я сию мою заповедь молодым друзьям моим, имеющим несчастие прокладывать себе художественную дорогу такими жалкими, такими горькими средствами.
В продолжение вечера кузина моя была, что называется, в своей тарелке: острила, смеялась и чуть-чуть не танцовала, как девчонка при одном слове о газовом платье и о какой-то еще невиданной в мире тюнике. Она до того была весела и любезна, что сделалась приторною и, наконец, несносною. Чужая радость вообще как-то нас мало радует, а несносная радость моей кузины меня просто бесила. Чтобы не быть безмолвным зрителем глупости и пошлости, я забрал свою мизерию и вышел, от ужина даже отказался. А после такой прогулки, как сделал [я] в этот день, это была большая жертва. С досады попробовал я заснуть, проба совершенно не удалась. Попробовал читать – еще хуже. Какую-то отвратительную скуку навеяла на меня кузина своей глупой радостью. Как безобразная каракатица, скука опутала меня своими гнусными ветвями и во всю ночь не давала мне покою. Что бы я ни вспомнил, о чем бы ни подумал, все скучно, все невыносимо, противно. Если английская хандра имеет хоть фамильное сходство с нашей русской тоскою, то я верю в возможность путешествия пешком в Камчатку, как это сделал какой-то лорд, да еще вдобавок и женился на дочери петропавловского пономаря. Свадьба, например, кажется, веселый, радужный предмет для размышлений? Попробуйте же вы размышлять о нем во время скуки. Да он вам покажется таким черным, таким гадким предметом, что вы и глаза закроете, а если вы уже с проседью, с лысиной и не женаты вдобавок, то лучше и не размышляйте о свадьбе. Тут вам полезет в голову и старость, и одиночество, и кончится тем, что вы на первой же попавшейся вам дуре возьмете да и женитесь во избежание одиночества. Правда, участь старого холостяка самая незавидная, но и участи старого мужа молодой жены нельзя позавидовать. По-моему, лучше доживать свой век старым холостяком, нежели окружить себя чужими розовыми крошками, а свою лысую почтенную голову украсить украшением, не внушающим ни малейшего почтения.
Перед рассветом немного освободился я от этой проклятой ведьмы-скуки и заснул, а проснулся уже на благовест к обедне. Хорошо еще, что Трохим – бог его знает каким наитием – догадался с вечера фрак и прочее приготовить; так я духом оделся и вышел из квартиры в ту самую минуту, как разодетая моя кузина садилась в коляску, чтобы ехать к обедне. Она предложила мне место около своей пышной персоны, но я отказался от этой чести и пошел пешком. Я думал уже около церкви увидеть великолепные экипажи жениха и невесты. Ничего не бывало: одна только коляска моей кузины красовалась да какая-то маленькая бричка с маленьким кучером. В церкви, как обыкновенно, мужички усердно шепотом молились Богу. На клиросе дьячок выводил басом «херувимы» с помощию вчерашнего безрукого кавалера. А где же молодые? Не случилось ли какого-нибудь недоумения, как это часто бывает в подобных случаях? После обедни отец Савва просил меня и Трохима Сидоровича на чашку чаю, и мы не отказали. Едва успел отец Савва прочитать «Отче наш» и благословить ястие и питие сие, как вошел в светлицу усердный помощник охрипшего дьячка, безрукий кавалер. Матушка после обыкновенного приветствия назвала его Осипом Федоровичем и просила садиться. Сначала он повесил свою шапку на колышек, нарочно для этого около дверей вбитый в стенку, и потом уже сел, почти у порога, на чем-то вроде табурета. Эта скромность понравилась мне, а тем более в военном человеке. Я стал наблюдать его внимательнее. Это был молодой здоровый парень, с черными жесткими волосами, остриженными под гребенку, с такими же черными густыми бровями и с подстриженными усами. Глаза он постоянно опускал и прятал под черными длинными ресницами, а потому об них положительно сказать ничего нельзя, как и о верхней губе, которой контур прятался под усами, а нижняя была прекрасно очерчена, только немного толстовата. Вообще же он казался физиономии грубой, но такой кроткой и выразительной, что я невольно им любовался. В разговор наш он не ввязывался, как это делают обыкновенно бывалые ребята его сословия. Если отец Савва адресовался к нему с каким-нибудь вопросом, то он отвечал коротко и основательно. Так, например, матушка спросила его, когда намерен их посетить господин Курнатовский? Он отвечал: «Перед вечером». И тем кончилось. Полюбовавшись скромным незнакомцем, я, поблагодарив хозяина за угощение, ушел, а Трохима Сидоровича оставила матушка у себя обедать. В продолжение дня незнакомец вертелся у меня на уме. И сам не знаю, чем он мог меня так заинтересовать. Отставной солдат и больше ничего. За обедом я порывался было спросить у кузины, не брат ли это невесты стоял на клиросе, но кузина была сегодня не в ударе, и я спрятал в карман свой нескромный вопрос. Думал после обеда спросить у родича, но тот за обедом еще чуть не захрапел. Трохим не являлся до самого вечера, и мое любопытство оставалось неудовлетворенным до самого вечера.
Дни ожидания так скучны и длинны, как этот нехитросплетенный рассказ. А часы ожидания еще длиннее и скучнее. И странно, мы постоянно надеемся и ожидаем, и не можем приучить себя к этому томительному чувству, не можем сократить бесконечного часа ожидания ни одной секундой. Несмотря на то что я дурно спал ночью и на то что я не весьма умеренно пообедал, а все-таки после обеда хотя и пробовал, но заснуть не мог. А все нелепое ожидание мешало. Чего же я жду, и что меня тревожит? И сам не знаю, а чувствую, что тревожит что-то. Чтобы избавиться от этого чего-то, я надел свою рабочую блузу, взял сумку, дубину и пошел на свой любимый пригорок, осененный дубовым крестом. День был прекрасный, небо светлое, голубое, глубокое и ясное, как мысль великого поэта. Белые прозрачные тучки-красавицы, как непорочные сновидения младенца, сменялись одна другою, и, пролетая небесное пространство, они набрасывали широкие темные пятна на мою ненаглядную панораму. С этими очаровательными пятнами панорама казалась и шире, и глубже, и бесконечнее. Я глаз не мог отвести от этого импровизированного освещения. Мне казалось, что я вижу на бесконечном горизонте и Звенигородку, и Тальне, и даже самую Умань.
Я принялся за работу. Разложил темные и светлые пятна на моем неоконченном рисунке, и рисунок ожил, заговорил и сам собою окончился. Вот где твои чары, колдовство твое, очаровательный Каналетти.
Освещение изменилось. Рисунок я положил в портфель и хотел уже идти в село. Смотрю, золотое солнце повисло над фиолетовым горизонтом и рассыпало свои изумрудные лучи по всему необъемлемому пространству. Новая прелесть! Новое очарование! Пораженный чудной гармонией, я в безмолвии опустил руки и, не переводя дыхания, смотрел на эту великолепную ораторию без звуков.