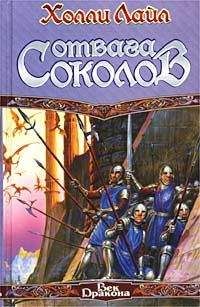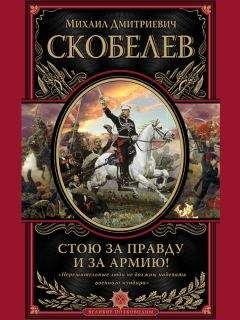- Угомонись ты, ишь развязло, языком-то мелешь, - незлобиво попеняла пристроившаяся на уголке Аннушка.
- Истинно. Ни убавить, ни прибавить. Я ж тебя люблю, Митяй, окаянный ты мой, закадычный друг-брат, - и Демьян полез целоваться к Митяю, едва не свалился с ног, но удержал равновесие, как-то тупо поглядел поверх стола, набираясь сил, и продолжал: - А молчать не могу, потому как охота вон ему, Алешке, узнать, как мы справляли энтот мировой день ци-ци... вилизации, еле выговорил Демьян заплетающимся языком. - Берет он артельные дроги напрокат. Лошадей-то по наряду отпускали, так он сам впрягся, ну и подъезжает к собственной избе. Кричит Аннушке: "Старуха, выходи из хоромин!" Вышла она, а Митяй усаживает ее силком на дроги, допрежь подстилочку трухнул, чтоб мягче сидеть ей... Сам впрягся в дроги, ухватился вот этими... ручищами за оглобли, ну и пошла скакать... А что в этом грешного, кто ему мог перечить? Никто. По случаю праздника... Катал-катал...
- А ты сам видел али слухами пользовался? - засмеялась Аннушка.
- Почему слухами? На месте мне провалиться, ежели вру, - бурчал Демьян. - Я ж с колокольни все видел. Уж как он скакал, как скакал, иной мерин или жеребец упитанный так не скачет в упряжке, как разлюбезный Митяй.
Меж тем Митяй сидел, не зная, что ему делать: то ли оборвать речь, то ли слушать - самому ведь диво. Он приосанился, поддернул полотенце, гордясь: катал, и не каждый на такое способен. А Демьяна не остановить:
- Нашлись, между прочим, вражины в колесницы палки ставить. Ребятня. И нет чтоб малые дети, с них и спрос малый, а больше хлопцы, которых и ударом-то кулака с ног не сшибешь. Венька вон, сынок тети Глаши... Сорвиголова парень, только и слава, что не конокрад али бродяга. Этого за ним не водится. Так этот Венька отчубучил замысел, как гуторят военные, тактический. Подговорил ребят, догнали они дроги, в которых, значится, в упряжке был Митяй, а на дрогах на мягкой подстилочке воссела, как царевна, Аннушка... Ну, подступили сзади, споймали за колеса, за спицы и тянут в свою сторону. Митяй тужится вперед, а эти сорванцы обратный ход дают... Смеху тут было не обобраться: кто кого перетянет. Митяй, понятно, не вдарил в грязь лицом, молодец, хвалю за дюжую хватку. Выпрягся из упряжки, попался ему под руки агромадный каменюка, ну и пристращал... Прыснули все от дрог, разбежались. А Митяй знай свое: впрягся опять - и по выгону, по селу... Только чует, видать, что дроги стали полегче, везти их в самую охотку, оглянулся: а его благостной женушки, то есть Аннушки, не очутилось на дрогах. Лежит в пыли и зовет: "Митяй, муженек мой старинный, помоги встать. Вывалилась я от твоей быстрой езды..." А то были случаи и похлеще, ну, этих картинок мне было не видать. О них сказывали Игнат и Митяй, пусть сами и доложат, как они вдвоем сочиняли письмо товарищу Сталину и самого Митяя снаряжали в Москву... Доложить обязаны, потому как заваруха потом случилась в их пользу... Обязаны чин чином... - закончил Демьян и умолк. Попросился выйти в сенцы и больше за стол уж не возвращался.
- Заводной. Только и терпит его Игнатушка, наш председатель, что кузнечных дел мастер, а так бы... - Аннушка недосказала, что могло бы иначе быть.
От хохота, от вина наплакавшись, гости перешли к деловым разговорам. Митяй как бы невзначай спросил у Алексея:
- Много наших-то полегло, сынок? Небось тыщи?
- Бери больше, отец, - проговорил Алексей. - В тыщи не уложишься... Пол-Европы в наших могилах... Учету не поддаются павшие.
Оживление за столом как-то сразу померкло. Гости сникли, горюя каждый о своем - муже ли, брате, сыне... Много селян выкосила война, в каждый дом приходили похоронки...
Гости разошлись.
Алексей с Верочкой вышли развеяться.
Шли молча. Светило из-за туч солнце, не такое жаркое под вечер.
- Верочка, я тебе нарочно не сообщал, чтоб не расстраивать... Наш командарм товарищ Шмелев... ведь умер...
Верочка остановилась, ошарашенная. Алексей и в темноте увидел, как глаза ее заблестели от слез.
- Для себя не пожил... Все для других. И это особенно больно, проронил Алексей.
Шли дальше по выгону. И молчали.
Думал Алексей, что нет и не может быть высшего счастья для воюющего человека, теперь уже для бывшего воюющего, как остаться в эту войну живым. И пусть ты ранен, избит осколками, продырявлен пулями, изморен походами и маршами, изношен, простужен, когда подолгу лежал на мерзлой земле, в гнилой сырости болот, и пусть ты калека, потерял зрение, но ты можешь чувствовать и осязать; пускай без ноги, не видишь - в конце концов судьба жестоко с тобой поступила, - но, право же, остался жив... "Жив. Как это прекрасно!" - в восхищении подумал Костров. И если что и омрачало его, то лишь память о погибших, их скорбящие глаза, их лица - они стояли перед ним, как живые. Алексей порой пытался заговаривать с ними, уже павшими, и ответом ему было глубокое безмолвие... Но чудилось ему: само безмолвие говорило, роптало, кричало голосами тех, из земли...
"Я буду верен павшим и понесу их мысли, дела", - подумал Костров. Идущая с ним рядом Верочка интуитивно почувствовала, что он думает о них, не вернувшихся с войны, и сказала, не утешая ни Алексея, ни себя:
- Жалко Шмелева... И пропавшего без вести твоего друга Бусыгина... Ты о нем много говорил и, знаю, печалишься...
Алексей, втаптывая ногами траву, машинально сорвал стебель, рассеянно понюхал, полынная горечь закружила голову.
- Они не пожили. Они оставили жизнь нам... - обронил он глухо и опять шел по выгону.
- У нас теперь, Алешка, третий человечек. Сынишка. Как я рада! стараясь рассеять его мрачность, залепетала Верочка. Она прижалась к нему, ластилась, чувствуя, как от радости, не украденной, а своей радости трепетало сердце.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Не раз ходили в степь, на луга.
Виделась теперь Кострову и вспоминалась, как въявь, прежняя, в юности исхоженная, изведанная, всем нутром понятая степь, и оттого он испытывал сейчас гнетуще-тоскливое чувство расставания с нею.
Бывало, выйдешь в поле - какой простор и тишина полуденной истомы! Нежарко солнце, хотя и стелются, ложатся на землю отвесные лучи; стойко держится в тени прохлады остуженный и мореный воздух; клонятся отягощенные колосьями ржаные хлеба... А как подуют ветры - легкая зыбь взбодрит травы, послышатся шорох поля и звон от колоса к колосу, забродят облака, лягут на землю тени и зачнут гулять по холмам и долам, через дороги и перелески... Тени-тени, лебединые крылья-тени!..
Хмурится небо, и с горизонта сизой стеною - все ближе и ближе подступают дожди, и вот уже молнии полосуют толщи туч, пронзают их вкось и вдоль изломами холодно-серебряных ножей, в одно мгновение стынет мертвенная тишь, а потом хлынет теплый дождь и так же скоро кончится, как и возьмется. И раздвинется горизонт, покажет проем синевы - и опять всевластно солнце, парит земля, дрожат, высверкивая алмазами, крупные капли на травах и в листьях деревьев.