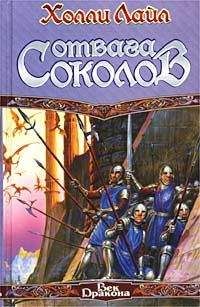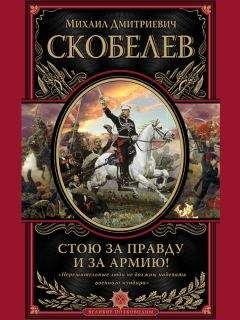И вновь распахнется в синеве своей неоглядное небо, и заструится над полем иссиня-фиолетовой дымкой марево, рябиновые кусты при дороге свесят тяжелые мокрые кисти ягод, и белые березы, как бы стыдясь кого, прикроют свою наготу бахромою длинных ветвей.
- Красотища какая, и уезжать неохота! - говорила Верочка.
- Неохота, а надо... - отвечал Алексей.
И шли дальше, рука об руку, и молчали. Причастность свою, слитность и с полем, и друг с другом выражали в молчании. Да и нужны ли слова, коль кругом такое диво, такая ширь полей.
Посмотришь вдаль: степь веселится, степь играет, и будто тысячеметровый ковер лежит перед глазами. Припекает солнце, и над степью, над каждым ее цветком звенят шмели, пчелы, снуют в воздухе прозрачные стрекозы, заливисто поют, то зависая на минуту, то кувыркаясь в выси, жаворонки...
Задумавшись, Алексей и не заметил, как Верочка поотстала и нарвала огромный букет цветов, переливающихся всеми красками радуги: то огнисто вспыхнут лепестки дикого мака, то мелькнет синью крохотный глазок полевой гвоздики, то тряхнет бахромою венца и не одна, а целая стайка кипенно-белых ромашек, то нежной бирюзою заиграют, перебивая все другие оттенки цветов, васильки и легкие, почти воздушные, колокольчики, а вот и оранжевая метелка каких-то неизвестных Алексею цветов, и шарики красного клевера, и даже стебель желтого, пахучего багульника...
- Ну и букет! Всем букетам на зависть, - подивился Алексей.
- А я?.. Чем я не букет?.. - отстранив и держа на весу цветы, погордилась Верочка. Конечно, спрашивала шутки ради, и тою же шуткой совсем нечаянно ответил Алексей:
- Ты у меня повилика.
- О-о, нежелательно. Обижаешь меня, - сказала, поджав губы, Верочка и спросила: - А почему именно повилика?
- А ты помнишь, как-то на фронт присылала мне в конверте повилику. Я так рад был: тебя видел в ней...
- Ну, если рад... - Верочка не закончила.
Шли и шли, впитывая в себя, в память и сердце воздух, звуки и краски степи.
В эти минуты Алексею не хотелось думать о загранице - просто надоело, хотя и придется снова ехать туда же... Щемящая тоска разлуки подкатила к сердцу; никогда бы не расставался с родной землей, не зная ни страха, ни бед, ни забот чужих... "Чужих, - усмехнулся Костров. - А кто эти чужие? Люди, которых вызволяли мы? Или битые-перебитые немцы... Какие же они теперь чужие? Мы их спасли, и мы за них в ответе, друг за друга в ответе. Наша радость - их радость, их беда - наша беда..."
А перед взором расстилалась строгая в своей красе, сдержанная в обличье земля, исполосованная спокойными холмами и столь же спокойными оврагами, и то, что она была именно такая, без показной пышности, величавая в своей простоте, в спокойствии, - все это наполняло чувством какой-то умиротворяющей внутренней близости с нею.
* * *
Коротки и беспокойны, как сполохи зарниц, встречи и разлуки. Недолго пробыл дома на побывке Алексей Костров, и вот уже исподволь и неукротимо вкрался час отъезда; всех охватило глухое, легшее тяжестью в груди чувство прощания.
Старая Аннушка, сбившаяся с ног в приготовлениях, утром, когда сели поесть, говорила:
- Наедайтесь, наедайтесь, в дороге небось и подкупить нечего.
- Сами-то мы ничего, перетерпим, а вон сынулька каш...
- Он грудной, на материнском молоке сидит, - говорила Аннушка. Бойся застудить. Особенно не укутывай, распеленаешь, глотнет воздуха... обдаст холодным воздухом, и кашлем зайдется...
- Умеет ли он кашлять? - усмехнулся Алексей и озабоченно добавил: Пеленок побольше возьми.
- Ну чего ты встреваешь, Алешка, - с веселым укором заметила Верочка. - Твои ли это заботы?
- Как же ты хотела, миленькая? - возразила мать. - Он теперича отец, а не только командир при мундире.
С утра погода выдалась чудесная. Подсвеченные солнцем облака вольготно плыли, роняя на землю сумеречные тени.
Провожали всем селом, народ валил к дому Костровых, глядели на статного, в мундире и при орденах Алексея и радовались, что такой знатный у них сельчанин.
Пытались глазеть и на их отпрыска. Дите оберегала мать, не давала никому даже мельком взглянуть на личико, боясь, что сглазят черные глаза, лишь Пелагее разрешила подержать напоследок, перед прощанием.
Поцелуи, слезы... Старая мать крепилась. Но самого Алексея разволновало, не удержался и потянулся к ней, хотя и не любил и не любит минуты расставания. Да и кому охота расставаться?
Поехали. Поддал Митяй концом вожжей, трусцой пошла лошадь, а за околицей опять поплелась, то и дело срывая губами на ходу межевые травы.
День сумрачнел.
- Внутрях у меня болит, сынок, - пожаловалась мать.
- Напрасно ты пустилась в дорогу. Может, перегодить? - заволновался Алексей.
- Время такое... Опять ты уезжаешь...
- Какое время, мама?
- Сумленое. Горемычный ты, сынок, - грустнела мать. - Подаешься сызнова за кордон, больно много неверных людей там... Надысь сам говорил: расколошматили, а кое-кто зубы точит...
- Гляди-ка, и наша мать имеет соображения в политике, - подивился Алексей.
- А как же иначе, - поддержал Митяй. - Мы, бывалыча, в войну с Игнатом сядем за стол, над картой кумекаем... Где какие удары наши ратники наносят, соображаем... А мать рядом, чуть где зарвемся - цоп за руку, мол, погодите, сваты, не туда гнете!
- Да не о том речь повел, - перебила Аннушка. - Пакостных ненавистников много развелось... Изувечить могут, а ты ж нынче не одинокий... Дите вон малое, - уже обращаясь к сыну, скорбела мать.
- Перестань, - придержал ее речь Митяй и поглядел на сына: - Где будешь служить-то?
- Разве я не говорил? - встрепенулся Алексей. - В Германию обещают послать... Мир завоеванный надо уберечь. Для всех нас и для него вот, для мальца, - кивнул он на закутанного в одеяло и спящего ребенка, над ним склонилась, стараясь даже не дышать, Верочка.
- А погода опять подпортилась. Кабы не ливнуло, простудить недолго... Но-но, рыжая! - забеспокоился Митяй и веревочными вожжами хлестнул лошадь. Она перешла на быстрый шаг.
Встревожилась и Аннушка, поглядев на небо. Тучи толклись по горизонту, и ближе сизовато-рыхлое облако уже накрапывало дождем, а вот то, черное, глыбистое, сулящее, похоже, град, загородило полнеба, ползло, перекипало в пружинно-упругих потоках встречного ветра.
Скоро уже и грязинский элеватор давней кладки из красного кирпича показался. Блеснула сбочь дороги река Матыра, по ней пробегал ветер, вздергивая зыбь. Ветер рвал и окорачивал ближние облака. Да и черная туча, тяжело провисшая чуть ли не до земли, прошла стороной, поползла куда-то, кроя горизонт пеленой дождя. И оттуда, из-под хмари облаков, несло обжигающей стужей.
В молчании подъезжали к станции Грязи. Гнетущее молчание заняло и весь остаток времени, пока усаживались в вагон. Потом - миг, запавший в сердце как вечность, - прощание. Стукотня колес...