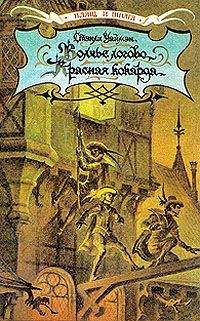— Мне всё это надоело! — отрезал Тезеименитов, поднимаясь с дивана (они сидели в гостиной). — Муж, сын. Лука… какой-то бой, который почти рычит на меня. Я от всего этого даже хуже стал играть. Как хочешь!..
— Погоди… что ты?.. Постой! — испуганно пролепетала Мария Ивановна. — Что «как хочешь?» Почему ты уходишь?
— Почему? Ты не понимаешь? Хорошо, я объясню. Всё это действует мне на нервы: муж — не муж, сын — не сын, рак — не рак. А я хожу в драном пальто и черт знает как питаюсь! Нет, довольно быть альтруистом, жить только для других… Прощай!
И он ушел, не взирая на Мурочкины рыдания. И больше не возвращался. Ушел благородным человеком.
И всё скоро вошло в норму.
В настоящее время Луке Телятникову уже восемь лет — это прекрасный, здоровый, краснощекий мальчуган, в котором растолстевший Иван Никанорович подлинно души не чает. Мальчишка уже научился щелкать на счетах, и отец называет его вундеркиндом в области бухгалтерии. И Коперник из золоченой рамы ласково смотрит на бухгалтерово потомство. Мурочка же пристрастилась к литературе и ходит теперь в кружок имени Фета, где изучает стихосложение. В их доме недавно появилось новое лицо: беллетрист Сиволдаев, очень знаменитый человек.
I
«Уточка» плавно скользила по уснувшей и точно отяжелевшей воде.
— Как по чернилам плывем, — сказал Мокринский. — И весла… словно вы их тряпками сегодня обмотали, Митрич…
Лодочник приостановил грести, выпрямил спину. Его силуэт четко очерчивался на фоне золотистого сияния фонаря, стоящего за его спиной на носу лодки. Митрич вслушался в ночь.
— Я тоже так замечаю сегодня чего-то есть… — ответил он, снова берясь за весла. — Туча весь вечер шла. Идет и идет. Душно, парит, а дождя нету…
На западе сверкнула зарница, озарив дальний берег. На мгновение там обрисовалась остроконечные кровли дач, вершины деревьев, колокольня…
— Ишь, полыхает… Соберется к утру гроза!..
— Дождя надо бы…
— А как же!
Мокринский был голоден. В свертке на его коленях лежал черный хлеб, купленный в городе еще теплым. Запах хлеба раздражал обоняние.
Мокринский взял сверток с колен и стал втягивать в ноздри сытный, такой русский, хлебный, ржаной дух. Едва удержался, чтобы не развязать сверток и не отломить кусок. Но все-таки поборол себя: дома были к хлебу и огурцы, и отлитый в термос горячий чай.
— Черный хлеб везу, Митрич. Здорово пахнет — аж слюна бьет!..
— Аржаной?.. Он, конечно, духовитый. Только здесь разве настоящий аржаной? Так только — одно название… Вот у нас, в Самарской губернии, хлеб так хлеб! Я бы сейчас за один понюх рубль бы дал, право!
Выплыли на середину реки, на самое течение. Чтобы не очень снесло, Митрич налег на весла, смолк.
Еще раз полыхнула зарница. Еще и еще. В их красных вспышках Мокринский увидел лодку, в которой плыл, как бы со стороны. Вот плывет она по этой черной, красным отблескивающей глади, и сидят в ней двое — Степан Петрович Мокринский, бывший колчаковский офицер-пулеметчик, и каппелевский унтер Мокей Митрич Сазонов. А кругом них — чужая страна. И гроза надвигается… И чего они ищут на том берегу, что им там надо? Может быть, всё это только чей-то сон? Нет ни Мокринского ни Сазонова, ни реки Сунгари. Есть мрачный Стикс, есть две области — мертвых и живых. И есть угрюмый Харон, везущий в Аид души двух российских беженцев.
«Греки клали в рот покойникам обол, — вспомнил Мокринский. — Это специально Харону… За переправу… Увы, — усмехнулся он, — у меня нет и обола; Митричу задолжаю пятак…»
Впереди показался огонек. Огонек пел китайскую песенку. Голос у огонька был тонкий, резкий. Скоро мимо «Уточки» проплыла лодка с одним гребцом и, как у нее, с фонарем на носу. Гребец что— то крикнул по-китайски. Ни Мокринский, ни Митрич не ответили.
А через пять минут лодка зашуршала днищем по песку и стала.
— Приехали! — сказал Митрич и, вытащив весла в лодку, прыгнул с носа на мокрый песок. Мокринский прыгнул за ним.
Потом он шел к своей дачке. Отмель была пустынна и темна, остров спал, — лишь где-то далеко светилось несколько огоньков.
«Рано сегодня дачники угомонились! — удивился Мокринский. — Обычно в это время молодежь еще шатается по берегу, поют… Всё это ночь виновата…»
И он почувствовал, что несколько быстрых шагов, сделанных им по песку отмели, вновь заставили его тело покрыться испариной, весь день мучившей его в городе.
Беспрестанно вспыхивали зарницы, помогая в ряду вырисовывающихся силуэтов дач отыскать свой домик. У ограды кто-то мутно белел.
— Это вы, Степан Петрович? — спросил женский голос.
— Я, Даля, — ответил Мокринский.
— Почему так поздно? А я жду, жду!.. — В голосе женщины были капризные ноты.
«До чего надоела!» — подумал Мокринский и ласково сказал:
— Всё дела да случаи, Даля. Вот кончил все дела — и прямо сюда. Чудесного с собой ржаного хлеба привез — еще горячим купил. Понюхай-ка. Лучше всякого Коти!..
— Ах, подите вы!..
Женщина плотнее запахнулась в купальный халат и, отвернувшись, опустила голову.
«Обязательно на днях пошлю ее к чертовой матери!» — давнул челюстями Мокринский и — ласково:
— Что-нибудь случилось?.. Ну, дай ручку, не сердись. Опять поссорилась с мужем?
Разве вы можете меня понять! — плаксиво протянула женщина, протягивая руку. Мокринский почувствовал, что ее ладонь липка от испарины. — Вы… как и все!.. Вам только одно от женщины надо…
«Ведь кончила гимназию, была на курсах… — почти с ужасом внутренне ахнул Мокринский. — А как говорит… Речь-то!»
— Аделаида Ивановна, ну, право, в чем дело… — пересилил он себя. — Две недели мы с вами знакомы, и уже вы…
— Это вы называете «знакомы»?.. — обиделась она. — Мы с вами — муж и жена, а вы… вы… «знакомы»! Вы — пошляк!..
— А ну вас! — не выдержал Мокринский. — Как хотите, Даля, — я голоден… Сейчас я пойду домой, зажгу свет. Через десять минут я свет погашу и открою окно…
— Я в окно не полезу. Довольно этого!..
— Раньше же лазили. Не прорубать же мне дверь в стене ради вашего дурного настроения! Словом, как хотите.
И Мокринский открыл калитку.
Но женщина схватила его за рукав пиджака.
— Уже, уже?.. Не любишь? Бросаешь?
«Ей-Богу, ударю!» — с отчаянием охнул Мокринский и, обнимая со злобой, которую женщина приняла за страсть, прижал ее к себе.
— Любишь! — удовлетворенно сказала она. — Хорошо, я приду. Ах, чего только я не сделаю для тебя! Как девчонка, как горничная — в окно. Ты ценишь это?.. Я тебе всё расскажу… Я окончательно, кажется, поссорилась с мужем…