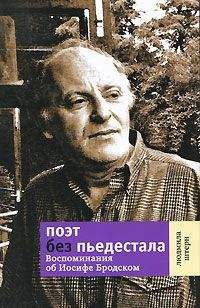Ужас, ужас, ужас…
Уж коли мне приходится ссылаться на самого себя, то вот еще один вспоминательный наплыв.
Место действия – Ленинград, время – скорее все-таки вторая половина 60-х, точнее не помню. Зато точно помню – ранняя весна. Я довольно долго засиделся у Оси в его «берлоге», вышли мы поздно – сумерки, сыро, зябко. Нам было по пути: он ехал к Ефимовым, я – домой. Троллейбус, как сейчас помню, двойка. Мы тряслись сзади на просторной такой площадке без скамей, держась за поручни, время от времени, на светофорах и остановках, нас бросало друг к другу, что создавало ощущение неловкости и близости. Не помню в связи с чем, я назвал имя Марины, имея в виду Марину Рачко, жену Игоря Ефимова, которую все, кроме меня, звали Машей. Никак не ожидал от него такой реакции на имя. Знал, что это его болевая точка, идефикс, bête noire, но чтобы до такой степени!
Когда выяснилось, что он зря сделал стойку, и догадываясь о моей реакции на его реакцию, он вдруг спросил:
– Извините за нескромный вопрос: вам Лена изменяла?
Я растерялся, но уж слишком ИБ был серьезен, чтобы реагировать на него тоже серьезно:
– Ну, кто же это может знать наверняка! Язык любви – язык лжи.
– Язык лжи – это язык нелюбви, – возразил он резко, и я мгновенно согласился, о чем потом жалел.
– Если речь о ревности, то не так уж и важно, имела место измена или нет. Неизвестность томит хуже известности. Измену – точнее, саму ее возможность – представляю очень живо. Воображение у меня работает на крутых оборотах. Отелло по сравнению со мной щенок. Да еще сны с их дикостью и бесконтрольность. Там Лена у меня бля*ь бля*ью. Со всеми знакомыми.
– И со мной?
– А то как же! Вот недавно снилось, как Лена запросто, без напряга и стыда, признается, что спала с вами, и я безумец-ревнивец наяву (ко всем и ни к кому) спокойно это во сне воспринимаю как само собой разумеющееся. Почему нет?
– А теперь представьте, что вы просыпаетесь, и оказывается, что это вам вовсе не снилось, а на самом деле. Что тогда?
Подвох? От одной такой возможности меня передернуло.
– Да, нет, я не о себе, а вообще, – утешил он меня. И уточнил: – С другом. Что бы вы сделали?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю. Шесть лет, как не знаю.
Подумав, добавил:
– Я старше вас не на два года, а на этот вот опыт.
У Пяти углов он вышел, оставив меня в сомнениях: не о нем, а о себе. А что бы сделал я на его месте?
Такая вот история.
Если что и нуждается в комментарии, то отнюдь не сюжетные выверты и скрытые цитаты, а причины измены (опять это клятое слово!) квазирассказчицы и автора в натуре собственным же принципам двухкнижия в этом текстовом отсеке, но поддаться этому соблазну значило бы отбивать хлеб у современных и будущих историков литературы, если таковые выживут в противостоянии конкурентам.
Очевидна – по контрасту с предыдущими и последующими главами – рокировка текста Арины и текстов ИБ: в самом деле, телега впереди лошади. Как и положено эпиграфам, но не комментам. Читателю предстоит самолично решить, как соотносятся заявления ИБ и его монолог, а заодно и монологи остальных фигурантов в этой весьма рисковой четырехголосице. В отличие от других глав, в которых вымыслу положены пределы и если не каждый пассаж, то многие могут быть подтверждены самим ИБ, каковая задача и выполняется худо-бедно автокомментарием в отдельных изданиях «Post mortem», а здесь, по техническим причинам, опущенным, эти четыре потока сознания, разные даже стилистически, невозможно заземлить научными или даже псевдонаучными примечаниями и педантично привязать к документальным высказываниям тех, кому они приписаны.
Тем более реальные имена присвоены все-таки беллетризованным персонажам.
Сам этот четырехголосник – а фактически пятиголосник, считая голос комментатора (соблазнительно, пусть я кощунник, было бы по библейской ассоциации назвать его моим «Пятикнижием») – с легко угадываемыми литературными образчиками: «Расёмон» Акутагавы и еще в больше мере Куросавы, «Шум и ярость» Фолкнера и, само собой, «Семейные тайны» Владимира Соловьева, с подзаголовком «Роман на четыре голоса». В данном случае – рассказ на четыре голоса. Четыре Б – по-видимому, по аналогии с упомянутыми в тексте пятью Б (Блок, Белый, Брюсов, Бальмонт и Бунин) – это ИБ (Иосиф Бродский), МБ (Марина Басманова), ДБ (Дмитрий Бобышев) и АБ (Андрей Басманов).
Три других голоса отнюдь не подголоски главному персонажу книги, а скорее коррективы, а то и в опровержении версии, излагаемой ИБ орально и текстуально и приведенной в эпиграфах. Но и монолог мертвеца, то есть главного героя, отнюдь не тождествен один в один высказываниям его прототипа, а в ряде случаев является существенной к ним поправкой.
К примеру, если гармошка сепий с ведутами Венеции прямо заимствована из устных и печатных рассказов ИБ – «…девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения набор открыток с рисунками сепией, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой», – то его земное и заземленное (в данном случае точнее было бы сказать «приводненное») понимание метафизической цитаты из Библии «Земля же была безвидна и пуста; и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою» – выправлено в соответствии с его предполагаемым потусторонним опытом. В самом деле, предположить, что «если Он носился над водой, то значит, отражался в ней» – изустное заявление ИБ, подтвержденное им в венецейском эссе: «В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать»
(«Fondamenta degli Incurabili»), – такой подход слишком материалистичен для метафизика, коим ошибочно все-таки полагал себя ИБ. Наделенный новым опытом, ИБ в своем загробном монологе сам себя как бы поправляет, когда говорит, что смятенный дух носится над лагуной не отражаясь в ней, и еще пару раз варьирует это свое посмертное наблюдение. В самом деле, кто может быть большим метафизиком, чем мертвец? У него нет другого выбора.
Монолог ДБ, в свою очередь, начинается эпиграфически – со стихов Дмитрия Бобышева, в которых выражена иная, его собственная версия на тему «обожались и обжимались», и даже стилистически выстраивается под этого реального прототипа (один из ориентиров – классный бестиарий Дмитрия Бобышева – Михаила Шемякина «Звери св. Антония», подаренный мне одним из них), хотя и не в такой цитатной зависимости, как речь главного персонажа романа. И вообще семантическое наполнение монологов – в частности, монолога ДБ – принадлежит, конечно, нам с рассказчицей, а не прототипу, и зависимо разве что системой образов молодого, питерского Бобышева, а не поворотом сюжета. Ключевой образ – с подожженными Мариной Басмановой в новогоднюю ночь занавесками – не только вычитываем из приведенных в эпиграфе стихов Бобышева («Тот новогодний поворот винта, когда уже не флирт с огнем, не шалость, с горящей занавеской, но когда вся жизнь моя решалась»; «Но как остановились эти лица, когда вспорхнула бешеная птица в чужом дому, в своем дыму, в огне…»), но и подтвержден независимыми источниками. Галина Шейнина, например: «Накануне этого Нового (1964) года Бобышев предупредил, что приедет с девушкой. Девушка оказалась Мариной Басмановой.


![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)