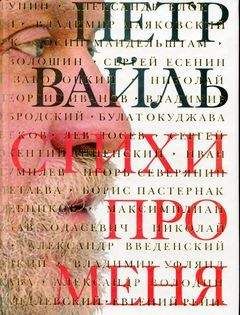Может, тогда на берегу Рижского залива и возникло, еще самому неясное, желание прочесть список кораблей до конца, не проходящее вот уже столько лет. Среди любимейших мировых авторов — Аристофан, Ксенофонт, Платон, Катулл, Овидий, Петроний. Может, тогда подспудно началась особая любовь к "Илиаде" — понятно, что "Одиссея" богаче и тоньше, но как же захватывает гомеровский киносценарий о Троянской войне, с подробной росписью эпизодов и кадров, с этим корабельным перечнем, долгим, как титры голливудских блокбастеров.
Многим и разным окуталось стихотворение Мандельштама с годами. Тогда в Пумпури на берегу ахейского моря я сразу и безусловно воспринял то, с чем согласен и теперь: "всё движется любовью". Нам всем было по двадцать четыре года: Мандельштаму, когда он писал; девушке, когда она читала; мне, когда слушал.
Борис Пастернак 1890—1960
Марбург
Я вздрагивал. Я загорался и гас. Я трясся.
Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней!
Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.
Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобья.
Но как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.
Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: "Ребячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба".
"Шагни, и еще раз", — твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.
"Научишься шагом, а после хоть в бег", —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнова учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.
Одних это все ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин. Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.
Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.
Желтел, облака пожирая, песок,
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.
В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты —
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.
Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Всё — живо. И всё это тоже — подобья.
Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?
Повсюду портпледы разложит туман
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкою на оттоманке поместится.
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь - соловей. Я тянусь к соловью.
Ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
1916,1928
Только взявшись сочинять эту книжку, понял, что неосознанный глубинный импульс к написанию одной из книг предыдущих — "Гений места" — был, возможно, дан еще тогда, много лет назад, "Марбургом". Как наглядно и убедительно вписывает Пастернак тончайшие чувства в марбургскую ведуту! Они не детали декорации, а драматические исполнители — все эти остроконечные черепичные крыши, булыжные мостовые, дома здешних "гениев места": Лютера, Гриммов. Не просто одушевление города, но и его соучастие в твоих интимных делах, его переживания вместе с тобой — совпадающие даже по внешним признакам. "По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел", — через двенадцать лет после стихов Пастернак в прозе рассказывает о том, как Марбург перенес его любовный крах: он отсутствовал всего сутки, уезжал в Берлин, но город успел отреагировать.
Когда лет в восемнадцать я прочел стихотворение впервые, больше всего поразило совпадение: был уверен, что один на свете так влюбляюсь — так, что заветный образ неудержимо проступает повсюду, все превращая в своих двойников: прохожих, дома, деревья, облака, цветы. А тут найдено точное слово, до которого не додумался сам: подобья.
Восхитило дерзкое внедрение, пусть и в некороткую строку четырехстопного амфибрахия, небывало длинного, из двадцати букв, слова: "кровоостанавливающей". Я так навсегда и запомнил это свойство арники, ничуть не интересуясь самим предметом: наверное, растение. А когда через тридцать пять лет после того, как прочел "Марбург", мне арнику прописали, обрадовался ей, как давней подруге. Все правильно, каждому времени свое: то подобья, то снадобья.
"Марбург" написан под впечатлением отказа Иды Высоцкой, которая приехала сюда летом 1912 года повидаться с Пастернаком, учившимся в здешнем университете. Накануне объяснения он выглядел так, что кельнер за ужином сказал с английским, пожалуй, а не с немецким юмором: "Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?" Через четыре года Пастернак писал отцу об Иде: "Как проворонил эту минуту (как известно, она в жизни уже больше не повторяется) глупый и незрелый инстинкт той, которая могла стать обладательницей не только личного счастья, но и счастья всей живой природы..." — самодовольно и смутно. Стихотворение тоже написано через четыре года, в 1916-м — проникновенно и покаянно. Да еще основательно переделано в 28-м, когда и возникло это безошибочное, так поразившее меня слово — "подобья". Как организует эмоцию временное отстранение, какова имитация сию минуту пережитого чувства! Насколько поэтический самозавод плодотворнее непосредственного переживания.