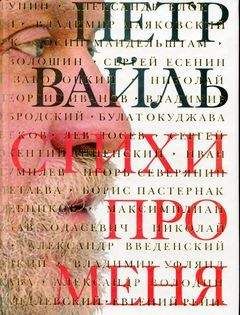Вскоре после Марбурга Ида Высоцкая, из известной семьи чаеторговцев, вышла замуж за банкира. В последний раз Пастернак встретился с ней в 1935 году в Париже: он — делегат антифашистского конгресса, она — давняя эмигрантка, уже француженка. Судя по всему, и говорить было особенно не о чем, тем более писать.
А тогда, в 12-м, кельнер оказался прав, и виселица обернулась "Марбургом".
В результате "гением места" города стал Пастернак. Улицу Гиссельбергштрассе, где он снимал комнату, назвали его именем. Правда, мало кто видит эту улицу: дом вдовы Орт стоял на окраине, за Ланом, узким здесь притоком Рейна, далеко добираться до университета. Окраина это и сегодня: при Пастернаке в Марбурге было тридцать тысяч жителей, сейчас — семьдесят пять, сопоставимо. Тогда Пастернак обнаружил, что город почти не изменился со времен учившегося здесь Ломоносова, таков же Марбург и теперь.
Если б не достижение прогресса — автонавигация, плутали бы мы с приятелями в поисках нужной улицы. А так мы во Франкфурте набрали на табло, встроенном в переднюю панель машины, "Marburg Pasternakstrasse", получили в ответ обещание, что, если не будет пробок, расчетное время прибытия 10:03, последовали всем дальнейшим указаниям и в 10:03 въехали на короткую наклонную улочку, уставленную похожими друг на друга двух-трехэтажными домами. В пустоте воскресного утра обнаружился один туземец с лопатой, который не знал ничего о Пастернаке и объяснил, что все дома тут построены после войны, кроме того с краю. Возле него мы постояли, сфотографировали и уехали утешаться в центр, неизменный при Пастернаке, Ломоносове, Гриммах, Лютере и даже Елизавете Венгерской, во имя которой здесь построен первый в Германии готический собор. В него заходил Пастернак, как и в маленькую прелестную Кугелькирхе, и в Мариинскую церковь на утесе, с которого открывается вид на сотни острых черепичных — "когтистых" — крыш. На месте и замок ландграфов Гессенских, и ратуша, и те же дома на Обермаркте, и улица Босоногих, по которой шли к мощам св. Елизаветы пилигримы.
В центре все как описано: "Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка". Но так обстоятельно у Пастернака в прозе, а в стихах — беглость, эскизность, штрих-пунктир.
Колоссальная насыщенность мыслей и чувств на словесную единицу. Отчего современники в один голос говорят о завораживающем влиянии Пастернака: он резко увеличил скорость русского стиха.
Иное дыхание поэзии.
О нем Мандельштам сказал: 'Такие стихи должны быть целебны от туберкулеза". Цветаева: "Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается, — точно грудь не вмещает: а-ах!" Никакого снисхождения к читателю: "Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе / Расшиблась весенним дождем обо всех, / Но люди в брелоках высоко брюзгливы / И вежливо жалят, как змеи в овсе". Ребусы с благодарной радостью разгадки. Это же он сформулировал: "Чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд". Он, гений, сказал и сказал, а какая авторитетная отмазка для графоманов.
Но в "Марбурге" ребуса нет и при всей импрессионистичности — ясность. Именно благодаря городу, можно догадываться. Это он, город, сопереживая, соучаствуя, организует стих, размещает эмоцию. Антонио Гауди сказал, что архитектура — искусство распределения света. Тем и занимается вместе с Марбургом Пастернак.
Чувство солидарности, слитности — не только с конкретным городом, а с городом вообще, городом как местом душевного потрясения. В "Разрыве" (теперь это разрыв с Еленой Виноград) Пастернак говорит о том же и так же: "Пощадят ли площади меня? / Ах, когда б вы знали, как тоскуется, / Когда вас раз сто в теченье дня / На ходу на сходствах ловит улица!" Конечно, "подобья" точнее и красивее, чем "сходства", но эмоция и мысль — те же самые.
"Художников этого типа окружала новая городская действительность, иная, чем Пушкина, Мериме и Стендаля... Улицы только что замостили асфальтом и осветили газом. На них наседали фабрики, которые росли как грибы... На эту по-новому освещенную улицу тени ложились не так, как при Бальзаке, по ней ходили по-новому. .. Однако главной новинкой улицы были не фонари и телеграфные провода, а вихрь эгоистической стихии... Его дыхание совсем особенно сложило угол зрения новых художников". Пастернак пишет эссе о Верлене, но все это — о себе.
Освоение города литературой требовало исторического усилия. Библейский строитель городов, основоположник городской цивилизации — Каин, первый убийца (Быт. 4:17). Первое на Земле убийство произошло из-за того, что Бог предпочел дары Авеля, то есть высказался в пользу пастушеского, природного образа жизни. (Кстати, отсюда: вегетарианство от лукавого. Ведь это Каин предлагал овощи и злаки, а Авель — мясо и молоко.) Бог явно против городов, потому и не дает людям строить мегаполис — Вавилонскую башню. Здесь, пожалуй, и обнаруживаются истоки Руссо и его последователей, вплоть до сегодняшних "зеленых".
Русская литература со времен разночинцев перестала быть усадебной, но окончательно городской только становилась. Тогда же, когда Пастернак писал "Марбург", Хлебников объяснял, что "город — точка узла лучей общей силы", и словно давал теоретическую основу пастернаковскому стихотворению: "Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня".
Таков Марбург — как всякий естественный город в рельефе, а не придуманный на плоскости, вроде Петербурга, который приказано было строить "единой фасадою": то есть здание существует само по себе, а фасад — вместе с улицей. (Не отсюда ли этот и сегодня пугающий в российских городах перепад, когда во двор, да и в подъезд и на лестницу шикарного на вид дома страшно войти?) Городская умышленность улавливается взглядом сразу. Петербург просто самый известный образец, а так-то их много на пространстве от Карпат до Камчатки, разных эпох: Пермь, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Минск, Астана.
Градостроение как ваяние. Из города можно лепить то, что нужно государству, или обществу, или тому и другому. Так во второй половине XIX века за семнадцать лет перестроил Париж в имперском духе городской префект барон Осман. Так изменил облик и атмосферу Барселоны Антонио Гауди. И уж конечно, бездумно и безнаказанно перекраивались города тоталитарных стран.
В 30-е годы XX века резко сменился градостроительный стиль советской России: от недолгого буйного увлечения революционным конструктивизмом — к неоклассицизму, к тому, что потом называли "сталинским классицизмом", "сталинским ампиром" и просто "сталинским стилем". Дома с колоннами, башенками и лепниной строили солидно, так что жить в них престижно по сей день. Самые заметные — московские высотки, все восемь штук. Москва столично строилась только с тех пор (отчасти — с конца XIX века), оттого она естественнее Петербурга, столичного изначально.