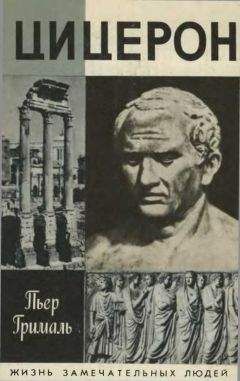«Счастливые арпинские годы» раскрыли также перед Цицероном всю важность чувства солидарности, которое связывало людей в муниципии и которое давным-давно было забыто римлянами в Риме. Казалось, дух былого единения граждан продолжал витать над этими холмами. В 54 году в речи в защиту Гнея Планция Цицерон вспомнит о поддержке, которую получил в Арпине он и его брат, когда выдвинули свои кандидатуры на магистратские должности в Риме. Поддержка оказалась горячей и всеобщей. Чувство, которое испытывали при этом граждане Арпина, было, без сомнения, сложным: от будущею магистрата каждый ожидал покровительства, ожидал тех или иных выгод, каждый рассчитывал на его благодарность. Но корыстным интересом дело далеко не исчерпывалось. Было здесь и непосредственное чувство радости от того, что успеха добился наш, арпинский человек, и Цицерон не сомневался, что слава среди жителей маленького города несравненно чище той, за которую боролись римляне в Риме.
Арпинские годы, видимо, с самого начала были озарены для Цицерона отсветами славы. Первые ее лучи коснулись его чуть ли не в младенчестве. Плутарх, сохранивший кое-какие истории о детских годах будущего оратора, рассказывает, например, что мать произвела его на свет, не испытав ни малейшей боли, и что все восприняли это как предвестие славной или, во всяком случае, необычной жизни. Некоторые к тому же слышали от кормилицы младенца, будто ей явился призрак, поведавший, что ее питомец окажет великие услуги народу римлян. Не исключено, что все эти легенды возникли много лет спустя, но, может быть, в них отразилось и то восхищение, которое Цицерон уже очень рано начал вызывать у окружающих. В пользу такого предположения говорит рассказ Плутарха о том, как в школе местного грамматиста товарищи Цицерона шумно восторгались удивительной легкостью, с которой он схватывал и запоминал объяснения учителя. Отцы семейств, наслышанные об исключительных дарованиях чудо-ребенка, толпились вокруг школы, которая, как и всегда в те времена, располагалась не в помещении, а в одном из портиков и была открыта всем взорам. Там-то арпинцы и могли наблюдать весьма удивительное зрелище: их дети окружали Цицерона и шли за ним такой же свитой, какую в мире взрослых составляли простые граждане, когда хотели выразить почтение магистрату или другому выдающемуся гражданину. Отцам, добавляет Плутарх, не слишком нравилось, что дети их столь явно уступали Цицерону в успехах и таланте. Эти первые триумфы, по всему судя, были одним из самых отрадных воспоминаний о счастливых арпинских годах.
Плутарх сохранил для нас и еще одно любопытное свидетельство: с самых детских лет Цицерон страстно любил поэзию и еще ребенком написал небольшое стихотворение под названием «Главк Понтийский». Об этом стихотворении неизвестно ничего, кроме заглавия, но и его достаточно, чтобы высказать кое-какие догадки. Главк — имя нескольких героев греческих легенд. Прилагательное «Понтийский» означает «морской» и позволяет отождествить героя стихотворения с рыбаком из маленького городка Антедона, который случайно попробовал траву бессмертия, обрел дар пророчества и стал морским богом. К этому образу обращались многие поэты, каждый раз, когда хотели ввести в свое произведение морское божество, как в легенде об аргонавтах или в одном из эпизодов «Возвращений» — поэмы о приключениях, пережитых победителями Трои на пути домой. Главк фигурировал также в рассказе о Сцилле: он был влюблен в девушку, носившую это имя, но колдунья Цирцея, которой Главк не оказал должного уважения, примешала ядовитые травы к воде фонтана, где купалась Сцилла, и она превратилась в страшное чудовище, а из боков ее выросли оскаленные, воющие псы по шесть с каждой стороны. Известно, что Сцилла, став чудовищем, наводила ужас на всех, кто пытался проплыть проливом, отделяющим Сицилию от Италии. Несмотря на греческое происхождение легенды, миф о Цирцее связан с Италией и даже с Арпином, ибо в эпоху Цицерона существовало предание, согласно которому колдунья обитала на полуострове Цирцеи (ныне Монте Чирчео) всего в 50 километрах к западу от устья Лириса. Старинная легенда относилась, по-видимому, к местному фольклору, но в то же время вводила слушателя и читателя в сокровищницу эллинистической поэзии, всегда жадно впитывавшей самые разные причудливые предания. Любопытно заметить, что Цицерон, который, по-видимому, сочинил это свое стихотворение, даже не достигнув пятнадцатого года жизни, то есть в 93—92 году, вступил на путь поэзии такого рода раньше специализировавшихся на ней так называемых «новых поэтов», которых позже он же подверг суровой и придирчивой критике. Нет оснований думать, что при всех своих талантах Цицерон в столь раннем возрасте мог встать у истоков нового литературного движения. Скорее до него дошли рассказы о поэте Левии — одном из тех, кто уже с конца II века поставил своей задачей возродить в Риме игривую поэзию, что родилась некогда в Александрии Египетской. Если это так, значит, отзвуки литературной жизни доходили до Арпина, и Цицерон, несмотря на свой юный возраст, внимательно к ним прислушивался.
Такой предстает общественная и духовная атмосфера, которая окружала Цицерона в детстве и до конца сохраняла влияние на его душу и разум. Мы говорили о том, как сказалось это влияние на политической деятельности Цицерона, о его преданности традиционным формам общественной жизни, сложившимся в его родном древнем «маленьком Риме». Неудивительно поэтому, что он стал «патроном» арпинцев, то есть их законным заступником перед судьями и магистратами в Риме и их покровителем в любых других обстоятельствах, шла ли речь об отдельных гражданах или о целых объединениях. Он был «патроном» и многих других муниципиев, с которыми его не связывали никакие личные отношения и которые ему довелось лишь раз или два защищать в суде, но с Арпином дело обстояло совсем иначе: он стал «патроном» города как человек, который из всех его граждан достиг наибольшей славы и сделался, казалось, самым могущественным лицом в государстве.
В расцвете лет и в разгар деятельности Цицерон, насколько можно судить, не слишком часто возвращался в Арпин, разве что отдохнуть на несколько дней. Он привел в порядок отцовскую усадьбу, а в парке установил на свои средства Амальтеум — нагромождение камней, образовывавших во вкусе времени нечто вроде грота, в котором, по преданию, нимфа Амальтея выкармливала грудью младенца-Зевса. Это было в 61 году, когда Цицерон находился в зените своей карьеры. Несмотря на то, что он владел и другими усадьбами и некоторые из них очень любил, Арпин оставался для него прибежищем и опорой. В начале гражданской войны он укрыл там свою жену Теренцию и дочь. Там по крайней мере, убеждал он жену, им не придется испытывать продовольственные трудности, которые угрожали Риму. Он и сам по возвращении из Киликии (где с ним находился его сын Марк) намеревался именно здесь, в Арпине, ожидать посещения Цезаря в случае, если бы тот решил с ним встретиться. И здесь же юному Марку предстояло надеть тогу гражданина, поскольку дело было в марте 49 года, и о проведении церемонии в Риме нечего было и думать. Привыкши мгновенно оценивать выгодные стороны любой ситуации, Цицерон и тут сразу учел, что этот жест польстит жителям городка и обеспечит ему еще большее их расположение. Среди граждан Арпина он испытывал то чувство безопасности, которого ему нередко не хватало в других местах. Он признается в этом несколькими годами позже, когда напишет, что окруженный стенами городок представляется ему самым надежным убежищем. Он, разумеется, не имел в виду, что ему придется выдерживать осаду целых армий, окруживших город, но с полным основанием полагал, что враги его (речь шла о Луции Антонии, брате триумвира) не решатся выступить против города, население которого так предано своему «патрону».