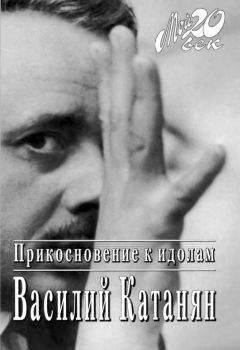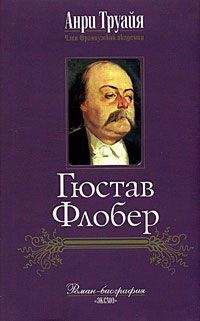А в конце сороковых «Ма» увлеклись уже мои знакомые, и ежевечерне мы встречались втроем — Зоя, Элик и я. Если в году 365 дней, то 360 вечеров мы провели за игрой. Зоя и я еще ничего, а Рязанов страшно расстраивался при проигрыше, хотя дело было не в деньгах. Такой уж он был (и остался) азартный.
А потом вдруг мы перестали играть — как отрезало. И получилось, что играли мы только в Доброй слободке, а на других наших квартирах — уже нет. Как-то выветрился азарт, да и времени не оставалось — все много работали, ездили в экспедиции.
Я уже говорил, что важнейшие этапы моей жизни связаны с Доброй слободкой. И, конечно, там мы праздновали свадьбу с Инной Генс. Это было 7 апреля 1963 года.
В четыре часа приехали из ЗАГСа со свидетелями — писателями Наташей Давыдовой и Анатолием Рыбаковым (со стороны невесты), режиссерами Зоей Фоминой и Эльдаром Рязановым (со стороны жениха) и сели за свадебный обед. Было весело и вкусно. Помню, Инна замечательно зажарила телятину. Рязанов с тех пор не упускает случая попрекнуть Инну, что больше она такой телятиной его не кормила. Мол, на свадьбу постаралась, а дальше — хоть трава не расти. Раз сто (если не больше) ел он потом телятину в Иннином исполнении, но, когда она угощает его чем-то другим, а не телятиной, начинается базар. Хотя это «что-то другое» он уплетает с большим удовольствием и аппетитом… Нормальный склочник.
Инна родилась еще в буржуазной Эстонии, окончила Ленинградский университет, восточное отделение, с твердым намерением выйти замуж за Иранского шаха. Этот номер, к счастью для меня, у нее не вышел. В шестидесятых годах она занималась в аспирантуре Института истории искусств в Москве. К тому времени жизнь ее отрезвила, и уже не надеясь стать японской императрицей, специальностью Инна выбрала японское кино. Изучала японский язык, уже владея русским, эстонским, английским, немецким, французским и немного фарси. Я, не говоря ни на одном, почтительно замирал. Собственно, не только от этого…
От своей мамы она унаследовала легкость характера, юмор, общительность и любовь все делать своими руками — от шитья вечернего платья до ремонта автомобиля или шпаклевки потолка. Ее отец, известный искусствовед и коллекционер, привил ей любовь к учебе, к искусству и путешествиям в те края, где можно часами бродить по музеям, сверяя каждый экспонат с каталогом. Инна — единственный человек, которого я знаю, получившая воспитание, и это чувствуется во всем — педантизм, аккуратность, обязательность и неумение соврать даже в малом. Нас же воспитывать было некогда — мы строили то социализм, то коммунизм — и это тоже чувствуется.
С появлением Инны в мою жизнь вошел совершенно незнакомый мне мир Прибалтики с его своеобразным искусством, жизненным укладом (несколько буржуазным) и духом интеллигентности, который шел от их дома в Таллине и от ее многочисленных родных, разбросанных ныне по всему свету.
С ее появлением в мою жизнь вошла совершенно незнакомая мне ранее Япония — от досконально изученного ею быта, искусства, истории и даже экономики этой страны, до глубокого знания киноискусства со всеми бесчисленными фильмами и звездами этой маленькой, но еще недавно такой кинопродуктивной державы. Я имею в виду Японию не вееров, хризантем и кимоно, но видных кинематографистов — от Канэто Синдо до Тосиро Мифунэ, — которые стали появляться у нас в доме; я имею в виду книги, написанные Инной по вопросам японского киноискусства; я имею в виду широкий круг взаимных интересов, который включал в себя культурные контакты Москва — Токио, далеко не ограниченные кинематографом…
Ее многочисленные друзья в Японии часто становились и моими хорошими знакомыми, так же, как мои друзья — с первых дней ее появления еще в Доброй слободке — стали ее друзьями. И давно уже ее и мои интересы стали общими — чем бы мы ни занимались каждый в отдельности.
Ведь так и должно быть, не так ли?
В 1943 году, вернувшись в Москву вместе с заводом и продолжая работать в цеху, я поступил в школу рабочей молодежи, где с грехом пополам и окончил десятый класс. Когда после двенадцатичасовой смены я садился за парту — мне хотелось только спать и есть… Впрочем, есть хотелось не только за партой, а беспрерывно всю войну.
Аттестат дал мне возможность держать экзамен во ВГИК на режиссерский факультет, куда я и был принят в августе 1944 года. А когда мы заканчивали первый курс, наступил День Победы — для моего поколения день незабываемый. И начался новый этап жизни, с тех пор называемый «после войны»…
После войны я окончил институт, получил диплом режиссера игрового кино — однако решил заниматься кинохроникой; после войны я впервые переступил порог Центральной Студии Документальных фильмов, где проработал сорок лет; после войны я женился; после войны появились у меня близкие и дорогие друзья; после войны я объездил всю страну и чуть ли не весь мир; после войны… очень много важного и интересного для меня произошло именно после войны, о чем и пойдет речь ниже.
О Лиле Брик и не только о ней
Я помню Лилю Юрьевну Брик, сколько помню себя. А после того, как они с моим отцом в 1938 году связали свои судьбы, о чем уже написано выше, я виделся с нею чуть ли не ежедневно в течение сорока лет. Многому был свидетелем, подолгу с нею разговаривал, остались наши письма, магнитофонные записи, мои дневники. В 1978 году, после ее смерти, я стал ее душеприказчиком и, сдавая архив на государственное хранение, прочел все воспоминания, заметки, записные книжки, колоссальную эпистолярию — словом, то, что она сочла нужным сохранить за свою столь долгую жизнь. Все это, конечно, помогло мне, когда я начал писать о ней — да и не только о ней…
«Трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым», — процитировала она как-то афоризм Ежи Леца и я понял, что это не просто так. Те, кто встречал Лилю Юрьевну в семидесятые годы, на закате жизни, помнили ее оживленной и элегантной женщиной — даже в преклонном возрасте. Моды она придерживалась в самых общих чертах, одевалась по собственному вкусу, но всегда выглядела современно. В ней ничего не было от «реликвии», хотя многие стремились лицезреть ее именно в ореоле великой возлюбленной. И бывали приятно разочарованы — никакой величавости. Войдя к ней в дом, вы с первых же минут видели с ее стороны внимание и любезность. Но все же было в ней нечто, что заставляло вас соблюдать дистанцию, — чувствовалось, что она значительна истраченной на нее любовью и поклонением великого человека. Это ощущали все и она прожила жизнь в сознании собственной избранности, а это давало ей уверенность, которая не дается ни чем иным. И в то же время вас поражала ее простота, та самая, которой обладают люди воспитанные и внутренне интеллигентные.