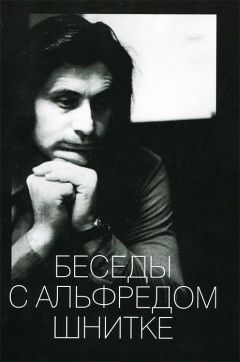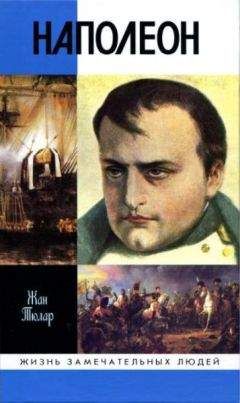Этот исходный подсознательный замысел является той эмоциональной волной, тем стержнем, который и рождает сочинение и без которого оно появиться не может.
Вместе с тем композитор постоянно, каждый раз убеждается в полной невозможности реализовать и воплотить замысел окончательно. Его внутреннему воображению будущее сочинение представляется в каком-то совершенно ином виде - как бы готовым, он его как бы слышит, хотя и не конкретно, и по сравнению с этим то, что потом достигается, является чем-то вроде перевода на иностранный язык с оригинала, с того оригинала, который, в общем, оказывается неуловимым. Так, по крайней мере, это представляется мне. Подобные мысли существовали
всегда, хотя и применительно к познанию вообще, а не только к искусству: “не сотвори себе кумира”, “мысль изреченная есть - ложь”, и так далее -примеры бесконечны. Нечто аналогичное есть и в искусстве в целом, и в композиторском творчестве в частности.
Одним из очень ярких выражений этой проблематики - проблематики трагической и вместе с тем оптимистической - явилась опера Шёнберга Моисей и Аарон. Два центральных образа оперы - Моисей, наделенный даром мысли (ему дано слышать и постигать истину, но он не способен ее рассказывать людям), и его брат Аарон, наделенный даром слова (он является “переводчиком” Моисея, интерпретатором и распространителем его мыслей), воплощают по сути дела две стороны души самого Шёнберга: его стремление к чистой музыкальной мысли, очищенной от материальных, жанрово-семантических признаков, и догматическое миссионерство, требующее “материализованных”, переведенных на язык логики конструктивных норм. Именно трагическая невозможность реализации “чистой мысли”, необходимость компромисса с реальностью, перевода косноязычной хаотической истины на благозвучный язык организованного правдоподобия толкнула его вслед за освободительным прорывом в атональность к созданию закрепляющих новую истину заповедей - системы додекафонии. Что додекафония лишь компромисс, “перемирие”, Шёнберг отлично осознавал: практически он сам и разбил свои скрижали, не приняв “неододекафонистов” конца 40-х -начала 50-х годов и подчеркнув тем самым, что техника додекафонии является его личным, временно и индивидуально обусловленным решени-
64
ем проблемы, окончательного решения не имеющей.
Вероятно, все дело в том, что технология, внешний способ изложения мысли, является лишь некоей конструкцией, сетью, которая помогает поймать замысел, неким вспомогательным инструментом, но не самим носителем замысла. Вот почему становится ясным, что технологическим анализом нельзя до конца раскрыть никакое произведение, и возникает соблазнительное предположение, что разумнее анализировать сочинение по другим признакам, например, по его угадываемой философской концепции. Но ведь такой анализ не может охватить произведение полностью. Если произведение действительно несет в себе некий замысел, оно неисчерпаемо; возможно, именно этим сочинения, которые сохранили свою жизнеспособность до нашего времени, отличаются от тех, которые представляют лишь “музейный” интерес. Эта незримая “подводная” часть и есть самое главное. Но должен ли композитор впасть в уныние от того, что эта неуловимая часть не дается ему в руки? Не означает ли это все, что рациональная техника бессмысленна, а музыкальная теория беспомощна, что все равно главное неуловимо и нужно ставить вопрос о бессилии, ограниченности рациональных исследований и рациональных приемов творчества? Нет, по-видимому, это не так. Однако если мы обратимся к каким-то основам музыки в природе, если попытаемся обосновать природу звука рационалистически и, исходя из нее, музыку в целом, то придем к выводу, что этого обоснования быть не может.
В свое время в Москве открылась электронная студия. Основатель ее, инженер по профессии, Е. А. Мурзин имел весьма ограниченное музыкальное образование, и, относясь к музыке как ученый, он пытался найти для нее, для суждения о ней чисто физическое обоснование. Он знал, что существует натуральный тон, что есть обертоны и они имеют очень сложную структуру, и что триста лет назад появилась темперация, то есть отказ от натурального звукоряда, и возникла приблизительная дискретность музыкального звукоряда. Зная это, он воспринимал всю историю музыки, начиная от Баха, как результат ошибки, просчета, и призывал вернуться к натуральному звукоряду - истоку музыки, чтобы, пользуясь натуральными тонами и их чистыми обертонами, строить все заново. Все беды музыки, бесконечные смены течений и направлений, существующий между форпостом музыки и ее коммерческим ширпотребом разрыв - все это Мурзин трактовал, исходя из этой, с его точки зрения, исторической ошибки. Должен сознаться, что я пытался построить в электронной студии сочинение, основанное на натуральном звукоряде, поставив перед собой эту задачу как чисто экспериментальную. Не отказываясь от собственного и унаследованного музыкального опыта, я все же хотел поставить эксперимент над собой и над музыкой. И я убедился, что, погружаясь в глубины обертонного спектра, вплоть до 32-го обертона и далее, слух проникает в бесконечный, но замкнутый мир, из магнетического поля которого нет выхода. Становится невозможной не только модуляция в другую тональность, но и невозможно взять второй основной тон, потому что, уловив первый и вслушиваясь в его обертоны, слух уже не может себе представить никакого другого тона. Он довольствуется первым тоном и микрокосмосом его обертонов; таким образом, второй тон становится ошибкой по отношению к первому. Вероятно, всякая музыка является “ошибочной” по отношению к первоначальному замыслу природы - основным тонам, и аналогичная “ошибка” происходит в сознании каждого композитора, который представляет себе некий
65
идеальный замысел и должен перевести его на нотный язык. И лишь “темперированную” часть этого замысла он доносит до слушателей. Но неизбежность этой “ошибки” вместе с тем дает музыке возможность существовать дальше. Каждый пытается прорваться к непосредственному выражению некоей слышимой им прамузыки, которая еще не уловлена. Это толкает композитора на поиски новой техники, потому что он хочет с ее помощью услышать то, что в нем звучит. Возникают бесконечные попытки отбросить все условности и создать без них нечто новое. И случается, что где-то уже во второй половине жизни композитор, который отбрасывал какую-то технику, создает новую рациональную регламентацию музыки. Если мы обратимся к XX веку, то увидим, что Шёнберг сознательно выстроил свою двенадцатитоновую систему; Стравинский и Шостакович не строили свою теорию сознательно, но мы сами можем увидеть ее в произведениях этих композиторов.