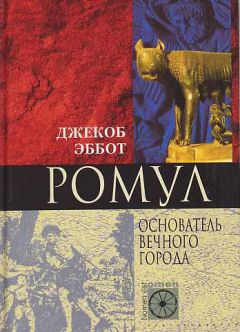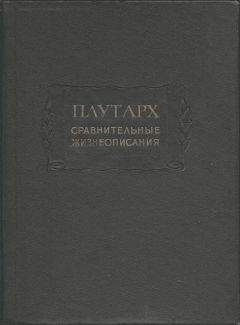Вот единственное, что роднит нас с богами: это приходит от них и к ним же возвращается – не вместе с телом, но когда совершенно избавится и отделится от тела, станет совсем чистым, бесплотным и непорочным. Это и есть, по Гераклиту, сухая и лучшая душа, вылетающая из тела, словно молния из тучи; смешанная же с телом, густо насыщенная телом, она, точно плотные, мглистые испарения, прикована долу и неспособна к взлету. Нет, не надо отсылать на небо, вопреки природе, тела достойных людей, но надо верить[51], что добродетельные души, в согласии с природою и божественной справедливостью, возносятся от людей к героям, от героев к гениям, а от гениев – если, словно в таинствах, до конца очистятся и освятятся, отрешатся от всего смертного и чувственного – к богам, достигнув этого самого прекрасного и самого блаженного предела не постановлением государства, но воистину по законам разума.
29. Принятое Ромулом имя «Квирин» иные считают соответствующим Эниалию[52], иные указывают, что и римских граждан называли «квиритами» [quirites], иные – что дротик или копье древние называли «квирис» [quiris], что изображение Юноны, установленное на острие копья, именуется Квиритидой, а водруженное в Регии копье – Марсом, что отличившихся на войне награждают копьем, и что, стало быть, Ромул получил имя Квирина как бог-воитель или же бог-копьеносец. Храм его выстроен на холме, носящем в его честь название Квиринальского. День, когда Ромул умер, зовется «Бегством народа» и Капратинскими нонами, ибо в этот день приносят жертвы, выходя за город, к Козьему болоту, а коза по-латыни «капра» [capra]. По пути туда выкрикивают самые употребительные у римлян имена, такие как Марк, Луций, Гай, подражая тогдашнему бегству и взаимным окликам, полным ужаса и смятения. Некоторые, однако, думают, что это должно изображать не замешательство, а спешку, и приводят следующее объяснение. Когда кельты взяли Рим, а затем были изгнаны Камиллом[53] и город, до крайности ослабев, с трудом приходил в себя, на него двинулось многочисленное войско латинян во главе с Ливием Постумом. Разбив лагерь невдалеке, он отправил в Рим посла, который объявил от его имени, что латиняне хотят, соединив два народа узами новых браков, восстановить дружбу и родство, уже пришедшие в упадок. Итак, если римляне пришлют побольше девушек и незамужних женщин, у них с латинянами будет доброе согласие и мир, подобный тому, какой некогда они сами заключили с сабинянами. Римляне не знали, на что решиться: они и страшились войны, и были уверены, что передача женщин, которой требуют латиняне, ничем не лучше пленения. И тут рабыня Филотида, которую иные называют Тутулой, посоветовала им не делать ни того, ни другого, но, обратившись к хитрости, избежать разом и войны и выдачи заложниц. Хитрость заключалась в том, чтобы послать к неприятелям самоё Филотиду и вместе с нею других красивых рабынь, нарядив их свободными женщинами; ночью же Филотида должна была подать знак факелом, а римляне – напасть с оружием и захватить врага во сне. Обман удался, латиняне ни о чем не подозревали, и Филотида подняла факел, взобравшись на дикую смоковницу и загородив огонь сзади покрывалами и завесами, так что противнику он был незаметен, а римлянам виден со всей отчетливостью, и они тотчас же поспешно выступили и в спешке то и дело окликали друг друга, выходя из ворот. Неожиданно ударив на латинян, римляне разбили их, и с тех пор в память о победе справляют в этот день праздник. «Капратинскими» ноны названы по смоковнице, которая у римлян обозначается словом «капрификон» [caprificus]. Женщин потчуют обедом за городскими стенами, в тени фиговых деревьев. Рабыни, собираясь вместе, разгуливают повсюду, шутят и веселятся, потом обмениваются ударами и кидают друг в дружку камнями – ведь и тогда они помогали римлянам в бою. Не многие писатели принимают это объяснение. В самом деле, взаимные оклики среди бела дня и шествие к Козьему болоту, словно на праздник, по-видимому, лучше согласуется с первым рассказом. Правда, клянусь Зевсом, оба события могли произойти в один день, но в разное время.
Говорят, что Ромул исчез из среды людей в возрасте пятидесяти четырех лет, на тридцать восьмом году своего царствования.
[
Сопоставление]
30 (1). Вот и все, достойное упоминания, из тех сведений, какие нам удалось собрать о Тесее и Ромуле. Очевидно, во-первых, что один из них добровольно, без всякого принуждения, сам устремился навстречу великим подвигам, хотя мог спокойно править в Трезене, приняв по наследству царство отнюдь не безвестное, а другой, спасаясь от рабства, в котором он жил, и от наказания, которое ему грозило, сделался, как говорит Платон[54], мужествен от страха и отважился на великое дело по необходимости, боясь испытать самые худшие бедствия. Далее, главный подвиг второго – убийство одного тиранна, царя Альбы, а для первого и Скирон, и Синид, и Прокруст-Растягатель, и Коринет – всего только проба сил; убивая их и казня, Тесей освобождал Грецию от лютых тираннов, да так, что спасенные поначалу даже не знали имени своего спасителя. Первый волен был ехать морем, без всяких хлопот, не подвергаясь нападениям разбойников, второму невозможно было жить спокойно, пока не расстался с жизнью Амулий. Вот еще важное свидетельство в пользу Тесея: сам не претерпев никакой обиды, он поднялся на злодеев не ради себя, но ради других, а Ромул и Рем, пока злоба тиранна их не коснулась, были равнодушными свидетелями его бесчинств над всеми остальными. И если немалый подвиг – тяжело раненным выстоять в битве с сабинянами, сразить Акрона, одолеть многочисленных врагов, то всему этому можно противопоставить борьбу с кентаврами и с амазонками.
То, на что решился Тесей, во имя избавления отечества от дани обрекши себя на пожрание какому-то чудовищу, или в заупокойную жертву Андрогею, или, по меньшей мере, на низкое, позорное рабство у строптивых и жестоких господ и добровольно отплыв на Крит вместе с девушками и мальчиками... впрочем нет! едва ли сыщутся слова, чтобы сказать, о какой решимости, каком великодушии, какой праведной заботе об общественном благе, какой жажде, славы и добродетели свидетельствует этот поступок! И, мне кажется, философы не ошибаются, определяя любовь, как услугу богов, пекущихся о спасении молодых людей. Во всяком случае, любовь Ариадны, по-моему, – не что иное, как дело божественной заботы и орудие спасения Тесея, и никак нельзя винить ее за это чувство, напротив, следует изумляться, что не каждый и не каждая его испытали; более того, коль скоро это выпало на долю одной лишь Ариадне, я бы, не колеблясь, назвал ее достойной любви бога, ее, поклонявшуюся добру, поклонявшуюся красоте, влюбленную во все самое лучшее и высокое.