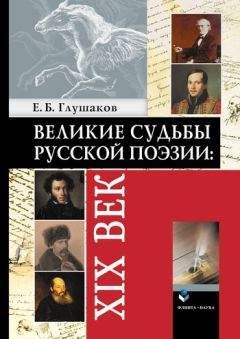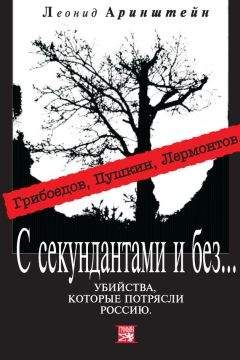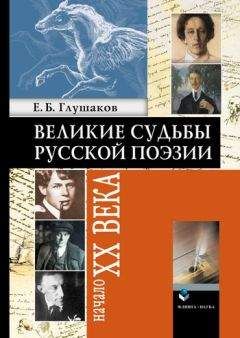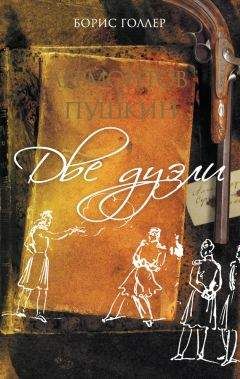ЭПИГРАММА
Поверьте мне, Фиглярин-моралист
Нам говорит преумиленным слогом:
«Не должно красть: кто на руку нечист,
Перед людьми грешит и перед Богом;
Не надобно в суде кривить душой,
Нехорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего!»
Ну что ж? Бог с ним! всё это к правде близко,
А может быть, и ново для него.
К творчеству трёх современников Пушкин относился особенно ревниво, не позволяя в своём присутствии хоть сколько-нибудь их критиковать. Это – Дельвиг, Языков, Боратынский. Ну а сам Евгений Абрамович мыслил о себе весьма скромно, при этом понимая, что за великий гений живёт и творит рядом с ним. Вот одно из его молодых обращений к Александру Сергеевичу: «Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл Россию между державами». Думается, что это напутствие, если и не вдохновило Пушкина на создание стихотворного романа «Евгений Онегин», то, по меньшей мере, поддержало в работе над ним.
Разумеется, и сам Боратынский не избежал влияния со стороны своего гениального друга. В частности, именно после «Повестей Белкина» взялся он за прозу и в 1831 году окончил «Перстень» – свой единственный эксперимент в повествовательном жанре. Однако в целом Евгений Абрамович был очень и очень оригинален. Недаром Пушкиным было сказано, что Боратынский «никогда не тащился по пятам увлекающего свой век гения, подбирая им оброненные колосья; он шёл своею дорогой один и независим».
Этим «увлекающим свой век гением» был, разумеется, не кто иной, как Жорж Гордон Байрон, воздействия которого не избежал и сам Пушкин, а позднее Лермонтов. Во власти величайшего поэта эпохи романтизма оказался и Мицкевич. Именно к Мицкевичу обращено стихотворение Боратынского:
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!
Боратынский не был плодовит. Может быть, по той причине, что возможность высказать себя в дружеской беседе нередко делала излишними поэтические излияния перед читающей публикой. Но как прекрасны, исполнены оригинальных мыслей и живого чувства были эти беседы, знали только немногие счастливцы. Увы, стихи всегда бледнее этих непосредственных проявлений личности всякого подлинного поэта. Боратынский – не исключение. Склонность же его к дружескому общению, к импровизированному обмену мыслями определённо роднит Евгения Абрамовича с другим великим, с другим русским поэтом-философом – Тютчевым.
В 1832 году Боратынский продал Смирдину полное собрание своих сочинений. И через три года оно вышло – «Стихотворения Евгения Боратынского» в 2 частях. А затянулось издание в связи с доработкою текста. Будучи требователен к себе, автор редактировал даже уже появлявшееся в печати. Тормозила выход книги и пересылка корректур, поскольку печатанье шло в Москве, а сам Евгений Абрамович проживал в эту пору в Маре. Однако же как не отделывал свои произведения мастер, публика, да и критика не сумели проникнуться их совершенством.
Не исключено, что творческое восхождение художника даёт эффект, противоположный желаемому: чем выше он поднимается, тем более и более удаляется от обывателя и всё менее и менее понятен ему. Встреченный триумфально в начале поприща, Боратынский, как и Пушкин, изведал равнодушие читателей к своим зрелым стихам. Общая участь всех великих. Впрочем, и самих творцов их собственный индивидуальный поиск разводит столь далеко, что и они оказываются порою бесконечно чужды друг другу.
Хорошо Александру Сергеевичу – его поэтическая Вселенная, кажется, была способна вместить всё и всех – от Гомера и Шекспира до детской писательницы Ишимовой и кавалерист-девицы Дуровой. А вот Евгений Абрамович, творчески разминувшись с Пушкиным, не сумел оценить «Евгения Онегина» и посчитал его подражанием байроновскому «Чайльд Гарольду», до неприличия хохотал над «Повестями Белкина», не чувствовал прелести пушкинских сказок.
В 1836 году, после смерти тестя, на Боратынского наваливаются хозяйственные заботы всего семейства Энгельгардтов. Постоянные разъезды из имения в имение: и в Тамбовскую Мару, и в Тульский Скуратов, и в Глебовское под Владимиром, и в Казанские поместья – Алтамыш, Каймарак, Вознесенское. Заклад и перезаклад имений, займы, расчёты с кредиторами и опекунским советом, контроль за управляющими, их назначение и смещение.
Всё это отвлекало от литературы и лишало покоя, столь необходимого для глубоко прочувствованных элегий и философской лирики. Ведь мудрость хоть и порождается пережитыми страданиями, но появляется на свет уже позднее – в период праздности и безделья, как светлый умиротворяющий взгляд в прошлое. А тут не то что писать, но и задуматься о жизни стало некогда.
Гибель Пушкина, последовавшая в январе 1937 года, оборвала последнюю – самую сердечную, самую кровную связь Евгения Абрамовича с миром поэзии, так полно и дерзновенно олицетворяемой его великим другом. И как слабое утешение в горестной потере Жуковский, разбиравший бумаги умершего, счёл необходимым познакомить Боратынского с восторженными отзывами Александра Сергеевича о его творчестве, так и оставшимися в черновых набросках ненаписанных статей.
К концу 30-х Евгений Абрамович равно отдаляется от западников и славянофилов и вообще от литературной жизни. А в отместку – нападки из обоих лагерей. Отдаляется он и от Ивана Киреевского. Под каким сильным воздействием этого образованнейшего и умнейшего человека поэт находился, видно из сохранившихся писем Боратынского к нему. Их более полусотни, но все они датированы 1829–1834 годами. Хуже всего, что теперешняя жизнь деятельного помещика и главы семейного клана была едва ли не отвратительна прирождённому поэту и философу.
ИЗ А. ШЕНЬЕ
Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо моё утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую её, покой её люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Моё грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Всё обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.
С того времени, как Боратынский вышел в отставку, он оказался в стороне от всякой общественной жизни и её интересов. «Муж-мальчик, муж-слуга из жениных пажей – высокий идеал московских всех мужей…» – нет, это не про него написал Грибоедов. И всё-таки разве теперь он не принадлежит семейству Энгельгардтов всецело и безраздельно? Ещё более погрустнели и потемнели краски его стихов. И до чего же редко они теперь приходят ему на ум, как правило, занятый хозяйственными расчётами и прочей деловой суетой.