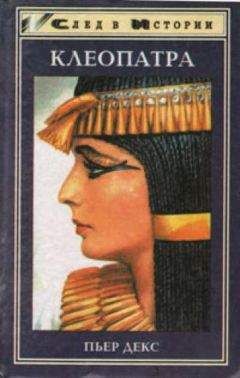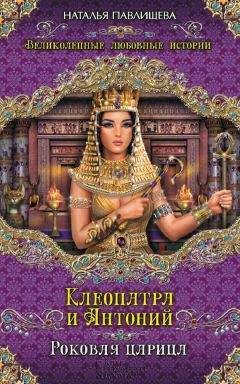Версия, основанная на частном письме Цицерона, написанном после смерти Цезаря, из которого можно предположить, что он недавно услышал о Цезарионе, лишь подтверждает точно установленный факт: о ребенке узнали только после 44 года. Почему Клеопатра скрывала до времени факт его рождения, мы поймем из дальнейшего повествования. Впрочем, ни у нее, ни у Цезаря не было оснований воздерживаться от сообщений на эту тему. Однако для того, чтобы событие обрело определенный смысл, нужно было рассеять тучи на политическом горизонте и объявить Цезаря царем не только в Египте, но и в Риме.
Если даже Цезарион уже существовал, у Клеопатры не было необходимости вытряхивать из рукава свою козырную карту, С точки зрения римлян, это был всего лишь бастард Цезаря, но отнюдь не наследник египетского престола и не сын римского царя, как того желала Клеопатра.
Вот почему Клеопатра хотела, чтобы сперва позиции Цезаря укрепились, и лишь потом намеревалась объявить во всеуслышание о ребенке. Таков наш взгляд.
Тем более что они, этот зрелый муж и эта юная женщина, произвели Цезариона в момент любви, и потому рождение сына должно было повлиять на планы, которые Цезарь строил в отношении Клеопатры. Светоний, надо полагать, прав, когда утверждает, что Цезарь еще при жизни дозволил ребенку носить-свое имя.
Зато есть бесспорные подтверждения, что Клеопатра прибывает по зову Цезаря в Рим в конке лета или в начале осени 46 года, когда уже отгремели его триумфы. Единственный член ее семьи, который официально сопровождает царицу, это ее брат-супруг Птолемей XV.
Глава XVII
Клеопатра в Риме
Цезарь поселил царицу вместе с ее свитой в своем доме в окрестностях Рима, на противоположном берегу Тибра. Это была великолепная вилла, известная красотой своих садов, и Клеопатра, устроившись со свойственным ей вкусом, зажила на широкую ногу.
Цезарь, разумеется, жил официально в своем доме великого понтифика (верховного жреца), где находилась также его жена Кальпурния. Но Цезарь и Клеопатра были, думается, близки, как прежде. Цезарю было не впервой бросать вызов общественному мнению, которое с трудом мирилось с его приключениями даже вдали от Рима на Востоке. А теперь всё протекало в Риме, или почти в Риме, и потому имело особый смысл. Одолеть путь до садов на берегу Тибра было пустяком для человека, который одолел уже тысячи миль на тех средствах передвижения, которые в наши дни заставили бы призадуматься многих мужчин пятидесятилетнего возраста. Исследователи расходятся в оценке тех чувств, которые связывали Цезаря и Клеопатру. Но если, вместо того чтобы пускаться в рассуждения о страсти, представить себе галантную связь наподобие тех, какие были в моде во французском обществе XVIII века, где политический интерес переплетался со взаимным влечением, — то можно приблизиться к истинному пониманию вещей.
Ныне, по прошествии веков, вся эта история изъедена, как ржавчиной, мнениями комментаторов, избравших Цезаря кто предметом восхищения, кто объектом для хулы, и потому приходится продираться не сквозь факты, сравнительно малочисленные, а сквозь теоретические выкладки, пристрастные к Клеопатре и лестные для Цезаря. Люди различных эпох, нравственных взглядов и устремлений, трактующие по-своему как гипотетическую, так и реальную судьбу этих двух повелителей мира, без конца обсуждают их поступки и реализацию ими своих замыслов. Не это ли доказательство принципиально новой основы их поведения?
Они изобрели друг друга, она — его, он — ее. И оба они никогда не опускались до того уровня, который задним числом им пытаются приписать. Цезарь не считался с традициями, Клеопатра бросала вызов общественному мнению, особенно римскому. У нас, разумеется, сохранились лишь свидетельства их недругов, как, свяжем, Цицерона, этого медлительно вращающегося флюгера, чье литературное самолюбие уязвила Клеопатра, а также мнение тех матрон, которым не терпелось излить свою желчь. Клеопатра — это более чем чужеземка, соблазнившая первого соблазнителя Рима, Клеопатра — это Восток, это сказочные богатства Египта, это мощь тысячелетней цивилизации, а с другой стороны ей противостоит Рим, лишь недавно ставший центром империи, и ни в географическом, ни в экономическом, ни в интеллектуальном отношении он еще не готов полностью к своей новой роли.
Цезарь олицетворяет собой тот мир, который сдвинут с основ, соскочил с оси и потому непонятно куда устремляется, привычные нравственные устои рушатся, и трудно угадать за бунтами рабов, за выступлениями римских плебеев и распутством женщин нечто такое, что уже в скором времени вырвется из гигантского бурлящего тигля и потрясет хронологию, нравы и жизнь людей куда глубже, чем это намеревался сделать Цезарь: имя этому явлению — Христос и христианство. Чтобы понять происходящее, нужно проникнуться опасениями той эпохи, предваряющей христианскую эру по меньшей мере на одно поколение, нужно жить ее тревогами, ощутить гигантскую приливную волну, швырнувшую сменяющих друг друга полководцев в горнило битвы, услышать наконец грохот от падения этого дуба — Помпея. Попытаться стать такими же, как люди того времени, жертвами слухов, поддающихся проверке лишь через недели, а то и через месяцы, представить себе этот сумбур, превращающий любой политический расчет в сложнейшую дилемму, по сравнению с которой наши головоломки со ставками на ипподромах кажутся детской забавой, и погрузиться в пучину неизвестности, когда пользы от средств связи было столько же, сколько от нынешней телепатии. «Что же до дерзостей этой женщины, жившей в садах на другом берегу Тибра, — пишет Цицерон после отъезда Клеопатры из Рима, — то я и сегодня не могу говорить о них без досады. Самое лучшее не знаться с людьми подобного толка. Они воображают, будто мы начисто лишены чувств и той гордости, которая им присуща».
Это единственное свидетельство современников о пребывании Клеопатры в Риме. В том же письме Цицерон сообщает, что между ним и царицей состоялся литературный диспут. Старому консулу, справившемуся в свое время с заговорами Катилины, было тогда ровно шестьдесят. Он активно поддерживал сенаторскую партию, но понемногу отходил от обреченного дела. Когда Цезарь сражался на Востоке с Фарнаком, он будучи еще в стане помпеянцев, отказался, однако, принять на себя командование войском, предложенное ему как старейшему из бывших там консуляров, и почти сразу вернулся в Италию.
Стоило прибывшему из Греции Цезарю высадиться в Италии, как Цицерон бросился его встречать и, к своему счастью, был хорошо принят. С этого момента он ведет себя так, словно, не будучи союзником Цезаря, в то же время не принадлежит к числу его врагов. Во всяком случае, он отказывается от активной политической деятельности, чтобы посвятить себя литературному труду, более того, старается склонить к такому же нейтралитету других влиятельных сторонников сенаторской партии. Он становится чем-то вроде деятельного посредника между секретарями Цезаря после победы при Тапсе, которые стремятся всех объединить, и побежденными, распространяясь о доброте Цезаря и пытаясь внушить сенаторам надежду, что они так же, как он, воспользуются в один прекрасный день благодеяниями диктатора.