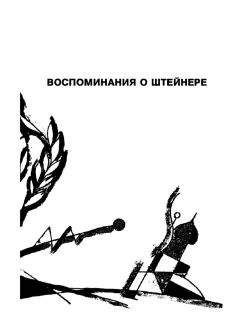В стекольном доме
Этим летом была достроена стекольная мастерская. К лекции по поводу ее открытия я набрала отпиленных веток вишневых деревьев, которые лежали вокруг на территории здания. Мы втыкали их в щели между балками новой мастерской и принесли туда все цветы, которые только удалось найти. Доктор Штейнер был видимо обрадован нашими попытками празднично украсить помещение и сказал, что это надо взять на заметку для будущего. (Впоследствии при всех торжествах в столярной использовались еловые ветки.) Его лекция звучала углубленно и предостерегающе, под аккомпанемент внезапно разразившейся грозы. Я никогда не видела таких разноцветных молний, как тогда. Белые занавески на больших окнах освещались светло-голубым, розовым, зеленым и фиолетовым светом, — как бы намекая на будущие оконные стекла. — Однако этим замыслам будет не легко осуществиться, мы не доросли до стоящей перед нами задачи; это чувствовалось из лекции.
Стекольный дом был готов, но никто не знал, как работать со стеклом. После нескольких неудачных попыток, — пытались даже класть стекло в воду, — послушались совета зубного врача доктора Гросхайнца — достать что-то вроде зубоврачебного инструмента, — конечно, совершенно других размеров. Дела двигались быстро, когда за ними стоял доктор Штейнер. Вскоре для этого был смонтирован первый механизм с электромотором, гибким валом и американскими карборундовыми камнями, которые в это время появились в продаже[6].
В пылу работы мы отказались от поездки в Париж, где доктор Штейнер читал лекции. Однако мы совершили небольшое путешествие в Пфорцгейм поездом, идущим с малой скоростью через Шварцвальд, — и вновь это стало откровением, как однажды в Христиании. Слова доктора Штейнера в убогом помещении кофейни звучали так, что надо было задерживать дыхание, чтобы не помешать вызываемому ими переживанию. Мы ведь были лишь как бы глухими и слепыми свидетелями события, которое разрешалось воспринимать в ощущении.
В середине лета состоялась поездка в Норчёпинг на лекции доктора Штейнера. Фрейлейн фон Сиверс пригласила нас ехать вместе с ними. В красивых старомодных помещениях шведского сельского дома мы следили за дальнейшим развитием темы, началом которой было Пятое Евангелие, и еще глубже погружались в своих переживаниях в духовное течение, идущее из незапамятных времен и обретшее новую жизнь. После таких переживаний задача, связанная со Зданием, вставала перед каждым из нас во всем своем безмерном величии.
На обратном пути мы задержались на острове Рюгене. На крутых белых скалах из известняка над фиолетовым морем возвышался земляной вал, окружающий зеленый луг- место древних мистерий. У одних здешних хозяев мы видели потемневшее изображение, по-видимому, инспиратора этого места по имени Свантевит. (Славянин ли, уроженец ли Запада, он со своим рогом изобилия выглядел хищным монголом.) Дрожь охватывала на бушующем ветру, который швырял на скалы фиолетовые валы. Белая пена собиралась в буйно движущиеся формы, напоминающие северный орнамент. Госпожа Волошина, которая была с нами, хотела остаться здесь на несколько дней, но меня охватила тревога и я торопила с отъездом в Дорнах.
Поездка по Германии была кошмаром: как будто весь мир трещал по швам. Я еще никогда не видела такого затравленного народа.
Вернувшись в состоянии изнеможения домой, я отдохнула несколько часов и проснулась с таким чувством, будто небо заколочено досками и больше никогда к нам оттуда не будет, как раньше, сходить свет; это чувство держалось годами. Между тем даже сияющие прежде золотом купола Здания были покрыты черным кровельным картоном. Это было время после убийства австрийского эрцгерцога — события, повлекшего за собой дальнейшие катастрофы.
Какое-то тяжкое бремя легло на Дорнах. То, что несколькими месяцами раньше, несмотря на всевозможные предчувствия, представлялось чистым безумием, то, что просто не могло наступить, — европейская война, — теперь стояло при дверях и казалось неотвратимым. И что можно было противопоставить этому? И однако, быть может, в это время мы упустили свое задание. Часто видели, как доктор Штейнер переходил от одного из нас к другому с простыми словами: "Ведь дело идет к войне… Будет страшно!" Он словно ждал чего-то, и при этом на него едва можно было смотреть. "Да, господин доктор, кажется, дело идет к войне". И тогда он уходил, словно в разочаровании. "Только сорок человек хотели ее, — сказал он, когда война разразилась, — и слишком мало было тех, кто ее не хотел".
В третий раз для меня и в последний раз в жизни Общества в Базеле, в старом доме на Хойваге, состоялось такое же собрание, как в Норчёпинге. Здесь, в магическом своеобразии этой встречи, вновь отдаленное прошлое соединилось с будущим. Там присутствовали удивительные люди. Но что я знала о них? И разве доктор Штейнер не сказал, что даже если бы там присутствовали одни стулья, он был бы обязан говорить. И мы ведь тоже не были чем-то большим по сравнению с этими стульями… Однако в тот раз я несколько яснее восприняла произнесенное с великолепным драматизмом слово. Из-за войны подобные встречи не повторялись, однако впоследствии в дорнахских лекциях я узнавала кое-что из того, что здесь было представлено в таком концентрированном виде.
Намеченное на август заседание было отменено.
В первые дни войны доктор Штейнер был подавленным, потрясенным. Присутствие возле него в это время угнетало, — мы видели страдание в его взгляде. Он переживал все гораздо интенсивнее, чем мы, но переносил это по-другому. В тот период мы реже приходили повидаться с ним. Он часто ездил в Германию с фрейлейн фон Сиверс и Миетой Валлер. Иногда мы спрашивали себя, увидим ли мы его когда-нибудь еще. В каком-то озлоблении работали мы под горячим сентябрьским солнцем, раскачиваясь на легких лесах возле форм над окнами на внешней стене здания, установленной заново. Царило теплое прощальное настроение, многих друзей призвали, и они должны были уехать. Одним из первых был Хайнц Митчер; вскоре разнесся слух о его смерти. Один за другим уходили на войну "сильные мужчины". Каждый должен был проститься с другом, с которым здесь он делал общее дело, чтобы воевать с ним как с врагом.
Это продолжалось недолго, и наряду с чувством сплоченности, усиленным войной, порой возникали также диссонансы взаимного непонимания. Ведь каждый мнил, что его народ самый лучший. Немцы считали, что правы только они; для русских все правительства были одинаково дурными; у французов пробудились воспоминания о "Revanche", — англичане же, казалось, взирали свысока на всех остальных.