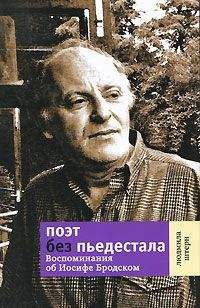И в заключение:
– Нет, мы пойдем другим путем. Мяу.
Толпу не жаловал любую – русскую, еврейскую, хоть мадагаскарскую, едино. Еврейскую, может быть, чуть больше других. Стыдился?
Когда мы мучились с ним, выдавливая из него еврея, как раба, и превращая в ирландца, потому что ему его жидомордия была «во где», как он сам говорил, проводя рукой по горлу – не желал походить на среднестатистического нью-йоркского интеллигента, коим внутри, кстати, и не был. Либо, по крайней мере, не хотел быть, а остаться, несмотря на Нобельку – шпаной, жлобом, выродком, изгоем, городским сумасшедшим, как в Питере. Хотя его питерская шпанистость вся сошла на нет в Нью-Йорке – стал мейнстримовцем и истеблишменцем. Внешне он являл собой нечто противоположное тому, чем хотел быть. Или казаться – без разницы. Beneath our masks we are all the same. Мы вытравляли из него не еврейство, а благопристойность, казенность, заурядность, ту самую ван хандред персентность, которой соблазняла его Америка и губила, ничтожила в нем поэта.
Это и есть печальный сюжет его американской жизни. Он же – сюжет моего романа, а вовсе не локальная тема этой главы о плохом хорошем еврее.
А теперь я приступаю к главе, которая поневоле будет краткой и которую предпочла бы не писать вовсе. К биографии рассказчика она имеет бóльшее отношение, чем к биографии героя, хотя рассказчик тоже герой этой истории, пусть и маргинальный. С другой стороны, однако, это самая что ни на есть точка схода двух наших био.
Понятно, не только в наших с ним отношениях – но в соотношении его судьбы с моей равенства нет и быть не может. Он – главное событие моей жизни, я – деталь его био. Да не примет меня читатель за шварцевскую тень, гоголевский нос или, не дай Бог, Lui у Моравиа. Не в амбициях дело, а в обиде, а та встала горлом. Пусть моя обида на ИБ – не более чем сноска к его великой судьбе. И будь эта обида только моей личной, то есть единственной, единичной, случайной, я бы о ней помалкивала в тряпочку. Но обиженных им – легион. Что он взошел на литературный Олимп (пусть Парнас, без разницы) по трупам близких – это, конечно, фуфло. Но то, что дорогу изрядному своему таланту (если не гению) пробивал локтями, – факт. Не бойтесь обижать людей – его собственный постулат. Он и не боялся, хотя потом жалел. Иногда. Как в случае с тем же Аксеновым. Или со мной. Точнее с Артемом, но рикошетом задело и меня. Есть разница, однако, между Аксеновым, роман которого, отвергнутый с легкой руки ИБ в «Фаррар, Страус энд Жиру», тут же был издан в «Рэндом Хаус», – и Артемом, который вынужден был из-за ИБ бросить колледж и сменить взлелеянную с малолетства профессию. Ведь на чем мы с Артемом сошлись? Помимо взаимного физического – и метафизического – притяжения.
Я для него – приятельница великого поэта, которого он знал наизусть.
Артем для меня – тот самый поэт, но в молодом, ровесничьем, во всех отношениях более прикольном варианте и с очевидным уклоном в прозу, которая как раз ИБ не давалась, и он ее иначе, чем презренной, не называл:
– Застряла, извини, в промежности: между развлекухой и заказухой. В отличие от самостийной поэзии, а той – зависеть от царей, зависеть от народа аnd then, and then, and then.
«Виноград зелен», – помалкивала я.
Как есть любовь с первого взгляда – у нас с Артемом, например, – так есть и нелюбовь: Иосиф и Артем невзлюбили друг друга с первой встречи. Можно сказать, не сошлись характерами. Причины: литературные и самцовые амбиции. Или это одно и то же? Не есть ли талант нечто вроде павлиньего хвоста, как Соловьев сказал про Довлатова? Оба моих мужика оказались дикими ревнивцами. ИБ никак не мог представить, что его крестница, которую он держал голым младенцем с бессмысленной рожицей и бесстыдной прорезью между ног и продолжал по инерции считать малолеткой с молочными зубами, живет полноценной (а иногда и сверх – ввиду задержки с началом) половой жизнью, да еще с его студентом, а студент, наоборот, довольно живо представлял своего профессора с синьорным правом первой ночи, меня включая, и все мои, впрочем, не очень настойчивые опровержения его не очень настойчивых, застенчивых, намеками, расспросов еще больше растравляли Артемово воображение.
Почему он ни разу не спросил меня прямо? Боялся показаться идиотом в случае отрицательного ответа? То ли, наоборот, опасался положительного? Ревнивца неизвестность устраивает больше всего: кормовая база его ревности, без которой ему уже жизнь не в жизнь.
Как раз ИБ спросил меня напрямик, но получил отлуп: не твое собачье тело.
Стыдно признаться, но их конфликт на сексуальной почве меня до поры устраивал и даже льстил моему постдевичьему честолюбию, потому я слегка обоих подразнивала, не подозревая, во что все это выльется. Для меня – офигенная игра, но не для них. Я даже не заметила, как ее участники стали играть слишком всерьез и не по правилам – не по моим правилам. А когда заметила, было поздно: оба уже достали друг дружку, обратно пути не было.
Не получив от меня ни да, ни нет, ИБ догадался обо всем сам. В том числе, о ревности Артема к нему, и, хотя уж кто-кто, а он знал о ее необоснованности, стал подливать масло в огонь, демонстрируя, как он говорил, наш с ним special relationship. А вот чего я вовсе не ожидала от моего закадычного дружка, что он воспользуется в борьбе с Артемом своим ведомственным над ним преимуществом. Знала бы – вела себя иначе. Если б можно было все переиграть! И все-таки мои подначки – опосредованная вина, тогда как у ИБ – прямая, даже если не вполне осознанная. Главная – перед Артемом: ИБ не учел юности соперника, которому годился в отцы. И перед самим собой – не узнал в Артеме себя, каким был в Питере.
Уже после разрыва, которым кончилась их буча, Артем дал волю своему воображению, но направил его, слава богу, в писательское русло, сочинив – с помощью Соловьева – роман о человеке, похожем на его мнимого соперника, и поручив мне роль рассказчицы, чтобы врубиться хотя бы в виртуальную реальность, коли спасовал перед реальностью действительной и так и не выяснил, было ли что у нас с ИБ.
Он потому и не пытал меня, что все равно бы не поверил, что бы я ему ни наплела. Он и роман этот затеял как своего рода реванш – студента у профессора, прозаика у поэта, юнца у старца, реального любовника у воображаемого. Дуэль, однако, так и не состоялась по форсмажорной причине – ввиду натуральной смерти одного из его участников. Может, то и к лучшему, кто знает. Я не о внезапной его кончине, а о несостоявшейся дуэли. Артем говорит, что оптимальным читателем нашей с ним книги был бы ее герой, но я-то знаю ему цену как читателю: поэт – гениальный, читатель – х*евый. Да и совсем другую книгу о себе он вымечтал, назначая меня Босуэллом: чтобы я отмыла его имя от приставшей скверны, а я, наоборот, наношу мазки дегтем.


![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)