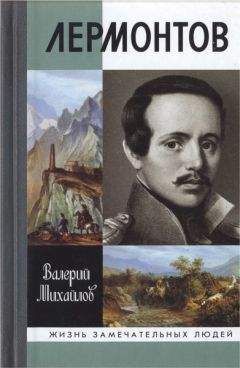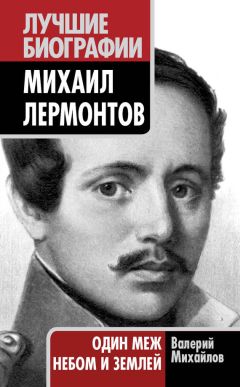Это земная — но и надмирная песнь.
Какая печаль отрешённости, но и завораживающая полнота чувства жизни! Какая всеохватность напоённого любовью бытия! Тут сказано несказанное про вечную жизнь, которою живёт человеческая душа на земле. Тут всё земное смыкается с небесным и растворяется в нём, душа соединяется с духом, земля переходит в небо — а небо в землю.
Казалось бы, это просто желание: не умереть с кончиной, а «забыться и заснуть». Но желание это настолько чудесно и так исполнено жизнью, её голосом, пением, любовью, вечнозелёным шумом, что невольно проникаешься волшебной очарованностью, убеждением: только такое и должно ожидать тебя там — даже если оно и невозможно.
«…Пушкин не знал этой тайны существенно новых слов, новых движений сердца и отсюда „новых ритмов“», — писал Василий Розанов.
Чрезвычайно точное определение невыразимого — тайна существенно новых слов…
В их тончайшей ткани будто бы живёт душа Лермонтова, с его новыми движениями сердца, пробуждающего новые ритмы.
«Мы упомянули о смерти, — продолжает философ. — Вот ещё точка расхождения с Пушкиным (и родственности — Толстому, Достоевскому, Гоголю). Идея „смерти“ как „небытия“ у него отсутствует.
Слова Гамлета:
в нём были живым веруемым ощущением. Смерть только открывает для него „новый мир“, с ласками и очарованиями почти здешнего…»
И далее Розанов объясняет суть «расхождения» Лермонтова и Пушкина:
«У Пушкина есть аналогичная тема, но какая разница:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Природа у Пушкина существенно минеральна; у Лермонтова она существенно жизненна. У Пушкина „около могилы“ играет иная, чужая жизнь: сам он не живёт более, слившись как атом, как „персть“ с „равнодушною природой“; а „равнодушие“ самой природы вытекает из того именно, что в ней эта „персть“, эта „красная глина“ преобладает над „дыханием Божиим“. Осеннее чувство — ощущение и концепция осени, почти зимы; у Лермонтова — концепция и живое ощущение весны, „дрожание сил“, взламывающих вешний лёд, бегущих весёлыми, шумными ручейками. Тут мы опять входим в идеи „гармонии“, „я вижу Бога“…»
Тончайший анализ состояния Лермонтова, выраженного в этом стихотворении, сделал Василий Ключевский. Приведя строки Лермонтова
…сладость есть
Во всём, что не сбылось…,
он пишет:
«Усилиями сердца можно усладить и горечь обманутых надежд… Человек, переживший опустошение своей нравственной жизни, не умея вновь населить её, старается наполнить её печалью об этом запустении, чтобы каким-нибудь стимулом поддержать в себе падающую энергию. Никто из нас никогда не забудет одной из последних пьес Лермонтова, которая всегда останется единственной по неподражаемому сочетанию энергического чувства жизни с глубокою, скрытою грустью — пьесы, которая своим стихом почти освобождает композитора от труда подбирать мотивы и звуки при её переложении на ноты: это — стихотворение „Выхожу один я на дорогу…“. Трудно найти в поэзии более поэтическое изображение духа утратившего всё, чем возбуждалась его деятельность, но сохранившего жажду самой деятельности, одной деятельности, простой, беспредметной. Не уцелело ни надежд, ни даже сожалений; усталая душа ищет только покоя, но не мёртвого; в вечном сне ей хотелось бы сохранить биение сердца и восприимчивость любимых внешних впечатлений. Грусть и есть такое состояние чувства, когда оно, утратив свой предмет, но сохранив свою энергию и оттого страдая, не ищет нового предмета и не только примиряется с утратой, но и находит себе пищу в самом этом страдании. Примирение достигается мыслью о неизбежности утраты и внутренним удовлетворением, какое доставляет стойкое чувство. В этом моменте грусть встречается и расходится с радостью: последняя есть чувство удовольствия от достижения желаемого; первая есть ощущение удовольствия от мысли, что необходимо лишение и что его должно перенести. Итак, источник грусти — не торжество нелепой действительности над разумом и не протест последнего против первой, а торжество печального сердца над своею печалью, примиряющее с грустной действительностью. Такова, по крайней мере, грусть в поэтической обработке Лермонтова».
Виссарион Белинский относил это, по сути итоговое в лирике поэта стихотворение, где «всё лермонтовское», к числу избраннейших.
Запечатлев «лирическое настоящее» — мгновение, душевное состояние, настроение, стихотворение «Выхожу один я на дорогу…», по замечанию филолога И. Роднянской, «тем не менее сплошь состоит из высокозначимых в лермонтовском мире эмблематичных слов, каждое из которых имеет долгую и изменчивую поэтическую историю. Это: „путь“ и „пустыня“ (странничество), „сладкий голос“ (песня), „тёмный дуб“ (один из образов блаженства) и т. д. А „голубое сиянье“! Оно своим происхождением — из „пространств синего эфира“ (поэма „Демон“)».
Одна из самых поразительных строк Лермонтова:
Спит земля в сиянье голубом…
Это сиянье голубое человек впервые воочию увидел из иллюминатора космического корабля, взлетев над землёй через сто с лишним лет после того, как оно открылось духовному взору Лермонтова. Поэт обладал объёмным, земным и космическим зрением — и разом видел и землю и небо, и кремнистый путь в пустыне и звёзды, говорящие друг с другом.
И. Роднянская пишет, что все эти прежние смысловые моменты лермонтовской лирики вступают в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» в новое трепетно-сложное соотношение: это — «тончайшая душевная вибрация, совмещающая восторг перед мирозданием с отчуждённостью от него, печальную безнадёжность с надеждой на сладостное чудо».
…По легенде, однажды пленному Шамилю прочли в переводе стихотворение «Выхожу один я на дорогу…». Имам спросил: кто это написал? Ему ответили: русский офицер, он воевал с нами на Кавказе. «Это пророк», — сказал Шамиль и поинтересовался, что стало с офицером. «Его убили», — был ответ. И, когда Шамиль узнал, что поэт убит не в бою с чеченцами, а — своими, он задумчиво сказал: «Богатая страна Россия»…
Стихотворение «Выхожу один я на дорогу…» вспоминает и Константин Леонтьев. Рассказывая в «Письмах с Афона» о своей монастырской жизни, он пишет знакомой: