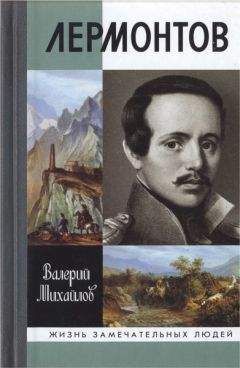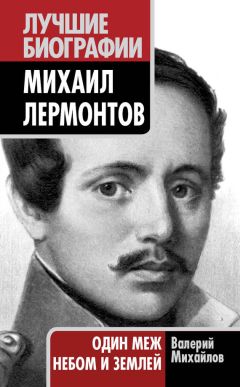Если у Пушкина, наверное, ещё имелись иллюзии, надежды, то у Лермонтова их нет и в помине: обнажённая правда. А такая правда требует силы и мужества, чтобы принять это.
Белинский считал, что «Пророк» — одно из лучших стихотворений Лермонтова:
«Какая глубина мысли, какая страшная энергия выражения! Таких стихов долго, долго не дождаться России!..»
Зачем и дожидаться, коли за полтора с лишним века лермонтовский «Пророк» нисколько не устарел, а наоборот — с каждой эпохой звучит только злободневнее…
Василий Ключевский, прослеживая затем, как резко изменилось «настроение» Лермонтова к концу жизни, как из воздушных облаков романтизма он пал на жёсткую землю реализма, писал:
«Наконец, ряд надменных и себялюбивых героев, всё переживших и передумавших, брезгливых носителей скуки и презрения к людям и жизни, у которой они взяли всё, что хотели взять, и которой не дали ничего, что должны были дать, завершается спокойно-грустным библейским образом пророка, с беззлобною скорбью ушедшего от людей, которым он напрасно проповедовал любви и правды чистые ученья».
Если пушкинский «Пророк» чуть ли не в точности «списан» с пророка Исайи, то лермонтовское стихотворение — в «отдалении» от библейских сюжетов, хотя и в нём заметны ветхозаветные и новозаветные мотивы, а «птицы небесные» заставляют напрямую вспомнить Евангелие.
Василий Розанов писал:
«Лермонтов недаром кончил „Пророком“, и притом оригинально нового построения, без „заимствования сюжета“. Струя „весеннего“ пророчества уже потекла у нас в литературе, и это — очень далёких устремлений струя».
А в другой своей статье, размышляя о том, от кого же пошла русская литература: от Пушкина или же от Лермонтова, и приходя к выводу, что всё же — от Лермонтова, философ заметил:
…Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я… —
«разве это не Гоголь, с его „бегством“ из России в Рим? не Толстой — с угрюмым отшельничеством в Ясной Поляне? и не Достоевский, с его душевным затворничеством, откуда он высылал миру листки „Дневника писателя“?
Смотрите, вот пример для вас:
Он горд был, не ужился с нами…
Это упрёк в „гордыне“ Гоголю, выраженный Белинским и повторённый Тургеневым; Достоевскому этот же упрёк был повторён после Пушкинской речи проф. Градовским; и его слышит сейчас „сопротивляющийся“ всяким увещаниям Толстой. Т. е. духовный образ всех трёх обнимается формулою стихотворения, в котором „27-летний“ юноша выразил какую-то нужду души своей, какое-то ласкающее его душу представление. Замечательно, что ни одна строка пушкинского „Пророка“ (заимствованного) не может быть отнесена, не льнёт к этим трём писателям».
Вряд ли Лермонтов ранее не знал тех слов апостола Павла, что Одоевский записал в подаренной книжке как духовное напутствие поэту. Ведь «любове» Лермонтов «держался» всегда, как и «ревновал» к «дарам духовным».
И всегда же — «пророчествовал».
Как оказалось — на века…
Кремнистый путьНо что значит поэт-пророк? В чём его отличие от прорицателей будущего или ветхозаветных пророков, жгучим словом и образом грядущей кары Господней обличавших зло в народе и правителях? Почему вообще поэту свойственно быть пророком? Очень точно ответил на эти невольно возникающие вопросы философ Иван Ильин:
«Они выговаривали — и Жуковский, и Пушкин, и Лермонтов, и Баратынский, и Языков, и Тютчев, и другие, — и выговорили, что художник имеет пророческое призвание; не потому, что он „предсказывает будущее“ или „обличает порочность людей“ (хотя возможно и это), а потому, что через него про-ре-кает себя Богом созданная сущность мира и человека. Ей он и предстоит, как живой тайне Божиещ ей он и служит, становясь её „живым органом“ (Тютчев): её вздох — есть вдохновение; её пению о самой себе — и внемлет художник…»
Художник и сам не знает, что происходит в глубине его души, что зарождается, зреет и развёртывается там. Но когда созревшее наконец выговаривается, это — «прорекающийся отрывок мирового смысла, ради которого и творится всё художественное произведение… прорекающаяся живая тайна».
Лермонтов и был прежде всего пророком этой живой тайны — сущности мира, мирового смысла. И вдобавок ему было дано прорицать — предсказывать будущее. Не оттого ли он так беспощадно обличал порочность людей, что всегда был причастен этой живой тайне Божией.
И тайна эта — насквозь религиозна: духом, самой тонкой тканью своей.
«Если считать существом религиозности непосредственное ощущение Божественного элемента в мире — чувство Бога, то Лермонтов — самый религиозный русский писатель. Его поэзия — самая весенняя в нашей литературе, — и, вместе, самая воскресная. Отблеск пасхального утра лежит на этой поэзии, вся „мятежность“ которой так полна религиозной уверенности», — писал Пётр Перцов.
И далее, в другом своём афоризме:
«„Небесное“ было для Лермонтова своей стихией. Говоря о нём, он умеет находить такие же поэтически точные, „окончательные“ слова, какие Пушкин находит, говоря о земном. Когда Лермонтов касается мира бесплотности, самый стих его окрыляется, точно освобождаясь от веса („На воздушном океане“)».
Иннокентий Анненский, разбирая отношение Лермонтова к природе, писал:
«Лермонтов был безусловно религиозен. Религия была потребностью его души. Он любил Бога, и эта любовь давала в его поэзии смысл красоте, гармонии и таинственности в природе. Тихий вечер кажется ему часом молитвы, а утро — часом хваления; голоса в природе шепчут о тайнах неба и земли, а пустыня внемлет Богу. Его фантазии постоянно рисуются храмы, алтари, престолы, кадильницы, ризы, фимиамы: он видит их в снегах, в горах, в тучах. Но было бы неправильно по этому внешнему сходству видеть в нём Ламартина. Лермонтов не был теистом, потому что он был русским православным человеком. Его молитва — это плач сокрушённого сердца или заветная робкая просьба. Его сердцу, чтобы молиться, не надо ни снежных гор, ни голубых шатров над ними: он ищет не красоты, а символа:
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест (символ святой).
…Мне кажется, что он был психологом природы».
Это свойство поэта и есть прикосновение к живой тайне, которая прорекалась в стихах.
Что же до разочарованности, до обличения людей, с их порочностью, то, по меткому определению Сергея Андреевского, лермонтовский пессимизм есть пессимизм силы, пессимизм божественного величия духа: