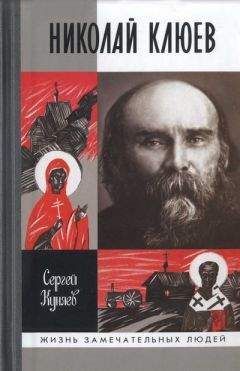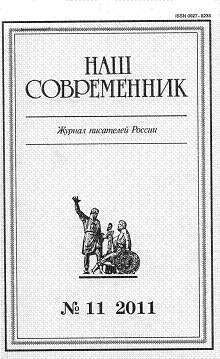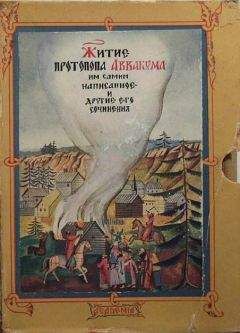— Не напечатаете поэму, писать не буду.
— Итак, Вы встаёте на путь борьбы? Тогда разговор будет короток. В Москве Вы не останетесь.
— Моё условие: или печатайте поэму, или я работать не буду.
Я долго уговаривал Н. А. Клюева, но ничего не вышло».
Честно говоря, этот разговор и не мог закончиться иначе. Услышав от Гронского, что его стихи — «мерзость», тут же сообразив, что именно главный редактор «Нового мира» имеет в виду, Николай не стал вдаваться ни в какие объяснения. Он просто прекратил беседу, не желая слушать ни о какой «борьбе», которую поэт, отказываясь «работать», якобы ведёт против советской власти.
«Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил:
— Арестовать?
— Нет, просто выслать из Москвы.
После этого я информировал И. В. Сталина о своём распоряжении и он его санкционировал».
Эта похвальба, эта жажда представить себя как ответственного человека, «справившегося» с «врагом» при помощи сильных мира сего, производит, мягко говоря, странное впечатление, особенно если учесть, что личная заслуга Гронского в расправе с Клюевым была несколько иной, чем Иван Михайлович стремился показать через четверть века. И последовательность событий была совершенно другой.
Клюев не «боролся». Он творил. Творил без всякой надежды на публикацию. И свои последние стихи, написанные в Москве, читал лишь отдельным избранным людям.
Я не серый и не сирый,
Не Маланьин и не Дарьин,
Особливый тонкий барин,
В чьём цилиндре, строгом банте
Капюшоном веет Данте,
А в глазах, где синь метели,
Серебрится Марк Аврелий,
В перстне перл — Александрия,
В слове же опал — Россия!
Даже прежде ненавистный есенинский «цилиндр» — здесь к месту и ко времени. И куда там любому dandy, любому эстету — хоть бы тому же Кузмину — до клюевского автопортрета!
Так отвечал поэт своим обвинителям (типа Бескина) в «кулачестве» и «новобуржуазности» и своим непрошеным «защитникам» (типа Вячеслава Полонского, по мнению которого Клюев показывал «внутренний лик… деревенской „старины“, ещё не изжитой, ещё цепляющейся за жизнь»)… В унисон отповеди преображается и дом — одиночество будит воображение, и в подвале Гранатного переулка расцветает чудодейная роща.
Мой подвалец лесом стал, —
Вон в дупле горит опал! —
Сердце родины иль зыбка,
С чарою ладонью глыбкой
Смуглой няни — плат по щёки!..
Настроение меняется под стать дуновению холодного ветра. Холод и страх поселяются в душе, осень за окном напоминает о скором скончании дней.
Ненастна воронья губернья,
Ущербные листья — гроши.
Тогда предстают непомерней
Глухие просёлки души.
Мерещится странником голос,
Под вьюгой без верной клюки,
И сердце в слезах раскололось
Дуплистой ветлой у реки.
Ненастье и косит, и губит
На кляче ребрастой верхом,
И в дедовском кондовом срубе
Беда покумилась с котом.
И всё же не желает он сдаваться отчаянию. Рано хоронить и дом, и его самого!
Не остудят метели деда,
Лишь стойло б клевером цвело,
У рябки лоснилось крыло
И конь бы радовался сбруе,
Как песне непомерный Клюев! —
Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и вьюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой!
В других стихотворениях, написанных в эти же осенне-зимние месяцы, определяющим становится мотив ухода, даже не ухода — отплытия, и всё более основательно вступает в свои права водная стихия.
Прости, прости. В разлив реки
Я распахну оконца вежи
И выплыву на пенный стрежень
Под трубы солнца, трав и бора…
……………………………
И в час, когда заблещут копья
Моих врагов из преисподней,
Я уберу поспешно сходни.
Прощай, медвежий самовар!
Отчаливаю в чай и пар,
В Китай, какого нет на карте…
Это «отчаливание» отсылает к мифическому плаванию по доисторическому океану, омывающему неподвижную землю, стоящую на трёх китах.
Но почему именно в Китай?
Об этом более полувека назад писал Константин Леонтьев:
«…Хотя Православие для меня самого есть Вечная Истина, но всё-таки в земном смысле оно и в России может иссякнуть. Истинная Церковь будет и там, где останется три человека. Церковь Вечна, но Россия не вечна и, лишившись Православия, она погибнет. Не сила России нужна Церкви, сила Церкви необходима России; Церковь истинная, духовная — везде. Она может переселиться в Китай; и западные европейцы были до IX и XI века православными, а потом изменили истинной Церкви!..»
Война с православной церковью, закрытие и разрушение храмов, аресты и расстрелы священников — всё напоминало погром старой православной церкви два с половиной века назад.
Не раз ходил в это время Клюев в Большой театр — смотреть и слушать великую «Хованщину» Мусоргского.
Слёзы текли по его впалым щекам, когда слушал он арию Досифея: «Сколько скорби, сколько терзаний дух сомненья в меня вселял…» И загорались глаза его, когда на подмостках сцены появлялась столь любимая им Надежда Обухова, певшая партию Марфы: «Свершилося решение судьбы, теперь приспело время в огне и пламени принять от Господа венец…»
Небезынтересно, что с 1925 года в ходу был секретный циркуляр Главлита, который предписывал, как именно надо ставить классические оперы. Трактовка «Хованщины», по мнению главного цензора Лебедева-Полянского, должна быть следующей: «чтобы сочувствие зрителя было не на стороне старой, уходящей „хованщины“, а новой молодой жизни, представленной здесь Голицыным, преображенцами и молодым Петром». (Цензор в своём раже не удосужился сообразить, что Василий Голицын — один из ярых противников Петра.)
Но какова бы ни была режиссёрская трактовка — именно Досифей и Марфа приковывали к себе всё внимание зрителя.
Надежде Обуховой Клюев подарил сборник «Костёр» с поэмой «Заозерье», записав на форзаце стихотворение с посвящением «Моей чародейной современнице — славной русской артистке Надежде Андреевне Обуховой».
А мы, холуи, зенки пялим, —
Не видим, что Сирин в бархатной зале,
Что сердце райское под белым тюлем
Обожжено грозовым июлем,
Лесными пожарами, гладом да мором,
Кручинится по синим небесным озёрам —
То Любашей в «Царской невесте»,
То Марфой в огненном благовестье.
…………………………………
Пропой нам, сестрица, кого погребаем
В Костромском да Рязанском крае?
Ответствует нам краса Любаша:
«Это русская долюшка наша, —
Голова на коле,
Косыньки в пекле,
Перстенёк на Хвалынском дне».
Аминь.
…Стихи, написанные в эти месяцы, — чистая лирика, в которой жизнеутверждающий мотив («И бородой зелёной вея, порезать ивовую шею не дам зубастому ножу!») сменяется мотивом близкого насильственного конца.