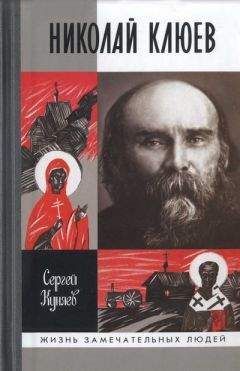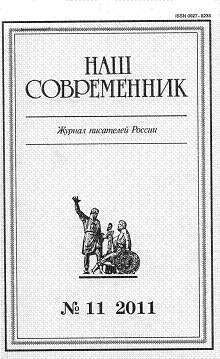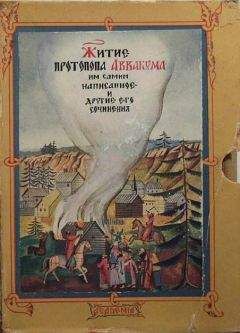…Стихи, написанные в эти месяцы, — чистая лирика, в которой жизнеутверждающий мотив («И бородой зелёной вея, порезать ивовую шею не дам зубастому ножу!») сменяется мотивом близкого насильственного конца.
Я люблю малиновый падун,
Листопад горящий и горючий,
Оттого стихи мои как тучи
С отдалённым громом тёплых струн.
Так во сне рыдает Гамаюн,
Что забодан туром бард могучий.
(Именно так читается последняя строка этого шестистишия — вопреки всем печатным публикациям, превращающим трагическое предсказание в бессмыслицу: «Что забытый туром бард могучий».)
Это был последний сентябрь — любимый клюевский листопад, — встреченный поэтом на свободе.
Прощайте, не помните лихом!
Дубы осыпаются тихо
Под низкою ржавой луной.
Лишь вереск да тёрн узловатый,
Репейник как леший косматый
Буянят под рог ветровой…
Эти стихи не предназначались Клюевым для печати. Он по возможности оберегал их от посторонних глаз и, конечно, наученный горьким опытом с «Погорельщиной», не собирался никуда предлагать «Песнь о Великой Матери».
И поэтому самым тяжёлым ударом для него стал поступок Анатолия, который перепечатал поэму, отвёз её в Ленинград и показал редакторам, издателям, кое-кому из поэтов.
Письмо Клюева, единственное в своём роде, было исполнено гнева и горечи.
«Милый и дорогой друг!
Получил от тебя бандероль с моей поэмой, конечно, искажённой и обезображенной с первого слова: Песня о Великой Матери — разве ты не знаешь, что Песнь, а не песня, это совсем другой смысл и т. д. и т. д., но дело теперь уже не в этом, а в гибели самой поэмы — того, чем я полн, как художник, последние годы — теперь все замыслы мои погибли: ты убил меня и поэму зверским и глупым образом.
Разве ты не понимаешь, кому она в первую очередь нужна и для чего и сколько было средств и способов вырвать её из моих рук. То, что не удалось моим чёрным и открытым врагам — сделано и совершено тобой — моим братом. Сколько было заклинаний и обетов с твоей стороны — ни одной строки не показывать… Но ты, видимо, оглох и ослеп и лишился разума от своих успехов на всех фронтах! Нет слов передать тебе ужас и тревогу, которыми я охвачен. Я хорошо осведомлён, что никакого издания моих стихов не может быть, что под видом издания нужно заполучить работы моих последних лет, а ты беспокоишься о моей славе! На что она мне нужна! Опомнись! Ни одной строки из поэмы больше под машинку! Всё сжечь! Как поступил я — взять все перепечатки, у кого бы они ни находились, никаких упрашиваний не принимать во внимание. Никаких изданий их не может быть. Поверь мне. Сколько экземпляров напечатано на машинке моей поэмы — на радость, обсасывание и кражу моим врагам? В чём смысл распространения тобою поэмы?
…Ещё раз плачусь тебе — сообщи немедля: что значит перепечатка первой главы поэмы? Где её перепечатали и кто? И получает ли она распространение? Ужасаюсь, как всё это возможно! Или ты забыл её содержание? Или действительно это не сон, и я должен одеть себе верёвку на шею?..
Поверь мне, что не издание, не деньги ты добыл для меня, а лишил меня последнего куска хлеба, следом за этим — пуля или верёвка; пока не верю, что это тебе необходимо… Приди в себя! Перекрестись! Опомнись! Пока не поздно — ни одной строки ни под каким предлогом никому… Ведь мою кровь не отмыть тебе вовеки!..»
Потом, немного остыв, Клюев написал: «Со слезами прошу прощения за вспышку гнева в моём последнем письме. Этот гнев есть, конечно, один из видов противодействия, борьбы за свою любовь, заботы за подлинность и сохранение любви как свободно принятого нами высокого избрания и сана. Чтобы сращивать соединительные нервы дружбы, рвущиеся и от нашего греха, и от влияния извне, для этого необходима какая-то вечная памятка, с чем бы связывалось непоколебимое наше решение — всё претерпеть до конца. И кроме того, нужен таинственный ток энергии, непрестанно обновляющий первое, ослепительное время дружбы. Что же это за памятка? Внешне и грубо — это, конечно, есть напоминание о себе — истирание пятой порога дома друга твоего, внутренне же — это подвиг ради дружбы, некий невидимый труд — каждый день и час со скорбью погублять душу свою ради друга и в радости обретать её восстановленной!»
И одновременно с этим письмом пишутся стихи, обращённые к Анатолию, с уже знакомым нам мотивом — убийства царевича Димитрия.
Погасла заря на палитре…
Из Углича отрок Димитрий,
Ты сам накололся на нож: —
Царица упала на грудку —
Закликать домой незабудку
В пролетье, где плещется рожь.
……………………………
Поёт золотая тростинка,
И хлеб с виноградом в корзинке —
Художника чарый обед.
Вкушая вкусих мало меда,
Ты умер для песни и деда,
Которому имя — поэт.
Пятнадцать лет тому назад Клюев представил себя царевичем Димитрием, зарезанным Борисом Годуновым — Есениным. Теперь же царевич Димитрий — любимый Анатолий Яр. И не зарезавший (даром, что Клюев в письме пишет — «убил») — зарезавшийся («Ты сам накололся на нож…»). Совершивший непоправимый проступок — убил сам себя.
Не раз предупреждал Николай Анатолия: не повторить судьбу Есенина. «Есенин гораздо позже твоего, 27 лет, стал привыкать к рюмочке — сперва только к портвейну, и через четыре с небольшим года его путь кончился в меблиражке на собачьей верёвке»; «Теперь не замедлит познакомиться с тобой сам змий с обольстительным шёпотом, что ты будешь, как Бог, если вовсю будешь пожирать плоды с дерева познания добра и зла — такое пожирание Воробьёва называет „свободным развитием“. Иначе говоря, ты должен жить, как „настоящий мущина“ — курить, выпивать, стремиться к стандартному комфорту и дешёвой авантюре — и незаметно докатиться до какого-нибудь Англетэра, где, тихо притаясь в углу — покачивается верёвка. Это видение стоит у меня в глазах! Мой долг и дело моей совести предупредить тебя об этом!»
Есенин, Клычков, Васильев… Каждый из них был удостоен высочайших похвал Клюева… Но насколько же важным для него было соответствие жизненного поведения художника его дару! И когда этого соответствия не было — не было для Клюева горшей муки. Вот и предостерегал Анатолия.
По сути одно и то же совершили и Анатолий, и Павел. Яр передал в чужие руки лелеемую и таимую первую часть «Песни», что, очевидно, по мысли Клюева, не могло снова не привлечь к нему внимания «компетентных органов»… Васильев же… Бумаги, которые он стащил со стола Николая и приволок к себе домой для «интересного чтения», сыграли роковую роль.