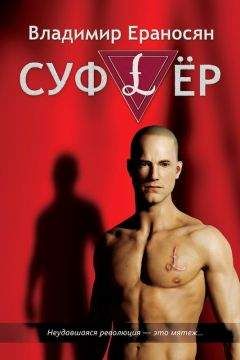Ловчев тоже много играл в атаке, но это, во-первых, было чуть позже, а во-вторых, он меньше рисковал, так как шел к чужим воротам только по открытому коридору. Мяч он поэтому терял редко. Лобановский, впрочем, и его построил, разрешая ему участвовать только в позиционной атаке, что было очень скучно, так как крутить мяч Ловчев не умел, головой в той сборной как следует не умел играть никто, поэтому игра его становилась бессмысленно (в смысле бесплодно) правильной. Силен Ловчев был в контратаке.
«Ему бы к Моуриньо!» — уверен мой папа.
Ловчев тогда только начинал, а Логофет заканчивал, то есть — Логофет у отца ассоциировался с предыдущим, а Ловчев с последующим десятилетием. А насчет Логофета, хотя Ибрагимович всплыл у отца в памяти по одному только эпизоду, отец как-то вдруг мне сказал, что если бы Ибрагимович был чуть поменьше, в смысле роста и веса, то и получился бы Логофет. Скажем, Логофет отбирал мяч так: поворачивался к нападающему спиной и отбирал мяч задним движением ноги, причем именно отбирал, а не отбивал мяч. Судьи часто определяли в таких случаях опасную игру, но ее не было, так как нога стелилась по земле подошвой, и контакта с ногой соперника не было вообще. Ибрагимович, играй он в защите, действовал бы точно так же, уверен папа. Короче, Логофет просто попал не туда и во времени, и в пространстве, к тому же манера его игры не гармонировала с ним самим. Ибрагимович с его хамской (при всем папином восхищении) манерой игры и есть хам, а Логофет был скромным и порядочным человеком. Отец не раз повторял, что Логофет был одним из его самых любимых игроков и вспоминал, что в конце концов его (и в сборной тоже) начали ставить в полузащиту, по-теперешнему на место второго опорного, хотя тогда еще не придумали, как именно он должен играть, и как не трудно догадаться из сказанного выше, это был последний гвоздь в его футбольный гроб. Ну не мог он отдать мягкий пас ближайшему партнеру, ему это было скучно. Заканчивая играть, он кому-то сказал, что тренером ни за что не станет, не хочет, чтобы его унижали, и жил потом за счет недурного знания иностранных языков, в частности итальянского, на почве знания которого я с ним и познакомился, лично убедившись, что отцовское представление о его человеческих качествах было абсолютно верным.
Ловчев же, как говорил мне отец, был по духу самый западный футболист из тех, кого он видел в советском футболе (говорили, что таков же был Бобров, но его игру отец не застал). В Англии Ловчева бы точно носили на руках, так как, во-первых, он был быстр, во-вторых прекрасно координирован, в-третьих вел за собой команду и в-четвертых — что для британца the last but not least — не был слишком искусен с мячом. Это был единственный не киевский игрок, которого Лобановский брал во все свои сборные. За это его недолюбливали, и это тянется до сих пор — он был лишен стандартного набора пороков, без которых в России не мыслили тогда талантливого профессионала. «Думаю, — размышлял мой папа, — что в Англии он бы считался не иностранной звездой, а совершенно своим игроком…»
«Я прекрасно помню лето 65 года, — начал свой очередной рассказ мой отец, — когда в Москву в составе сборной Бразилии приехал Пеле. Помнится, 102 тысячи зрителей, битком забившие «Лужники», облегченно вздохнули, когда он, ударом метров с двадцати пяти, когда ему никто не мешал, запулил мяч на трибуну за воротами, не потому, что мяч срезался, а просто не лег на ногу. Облегченно — потому что оказалось, что тоже человек, такой, как мы с вами. Впрочем, не совсем такой, и то, что делал, больше всего было похоже на подвиги Рональдо в матче за «Интер» со «Спартаком» в чудовищной грязи в Москве, только казалось, что Пеле это не стоит никакого труда. Запомнилось, пожалуй, ощущение огромной потенциальной мощи. Когда Пеле ускорялся, казалось, что это пружина, сжимающаяся по мере ускорения, то есть, набирающая потенциальную энергию. Набрав ее, он тормозил, после чего пружина разжималась в виде нового, еще более мощного ускорения, и тут уж за ним нельзя было угнаться. В такую же пружину — и вот в этом, пожалуй, он был неподражаем — он превращался, принимая мяч. Тут дело было не в том, что мяч прилипал к его ноге — у Марадоны или Месси он тоже прилипает — а в том, что с мячом он как-то физически наливался силой и мощью. Когда обычный (и даже не обычный) игрок принимает мяч, а потом начинает движение, видно, что он, по всем законам классической физики, делает новое усилие, напрягает мышцы. У Пеле казалось, что он их не напрягает, а наоборот, расслабляет, разряжая энергию, которой его зарядил мяч — это уже не классическая, а ядерная физика. Вообще-то все это было не более чем уникальным сочетанием негритянской пластики с европейским пониманием футбола, и такого я ни у кого больше не видел. И еще одно, во что уже совсем невозможно поверить: Пеле не то что никогда не симулировал — он не падал даже от приличной подножки, чтобы его свалить, нужны были удары по ногам, нанесенные изо всех сил, что с удовольствием и делала Португалия на ЧМ-66…»
Вообще-то Владимир Маслаченко должен был бы прославиться на ЧМ-1962, когда вратарям уделялось больше внимания, чем теперь. Причин тут две, объяснял мне отец. Одна футбольная, другая — время. С футбольной причиной все очень просто — били по воротам гораздо слабее, отсюда и легенды о «смертельных» ударах, поэтому чаще попадали в створ, и у вратаря было больше работы и шансов спасти ворота. Вторая сложнее: во-первых, индивидуальность — то, что человек что-то делает сам — ценилась выше, и во вратарях нравилось уже то, что они одеты не так, как все. Во-вторых, оттого что жизнь была более жестокой и «спасение» ценилось выше, чем гол, благо голов хватало.
Перед чемпионатом мира Яшин говорил, что не в форме, начальник команды, Андрей Старостин, значивший тогда в команде больше, чем тренер (Качалин), не возражал, и первым вратарем должен был стать Маслаченко. Легендой Яшин тогда еще не был. Но, бросившись в ноги нападающему в тренировочном матче, уже в Южной Америке, Маслаченко сломал лицевую кость, не «как бы сломал», а по-настоящему. Дальше можно себе представить себе, что было бы, если бы… Яшин бы не сыграл за сборную мира и остался бы, в лучшем случае, звездой для домашнего употребления, а Маслаченко, как бы великолепно он ни играл, никогда бы не смог занять его нишу — ну, не было в нем чего-такого, что было в Яшине.
Вернувшись на поле, Маслаченко, уже в составе «Спартака» (куда он и в самом деле хотел перейти, оказавшись в Москве, совершенно бескорыстно), около года преодолевал страх, и тут было на что посмотреть — отец считает, что ему повезло обратить на это внимание: мяч мечется во вратарской, с трибуны видно, как Маслаченко заставляет себя броситься в ноги и не может. В конце концов он бросается в самую гущу, просто, чтобы броситься — уже неважно, где мяч, а важно, что смог броситься и остался цел. Где-то к концу сезона он психологически полностью восстановился, это, несомненно, было моральным достижением, так как никто его не жалел — тогда это считалось оскорбительным для человека.