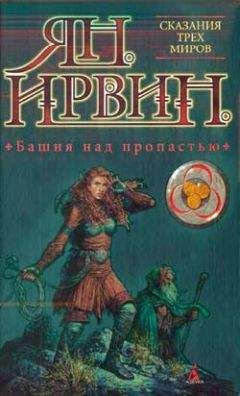в радикалов. Футуризм присоединился к фашизму, а сюрреализм немедленно приник к лону марксизма-ленинизма. Простой анекдот рассказывает, до какой степени авангард способен выворачиваться наизнанку, как перчатка, и сам порождать те самые идеи, против которых боролся.
* * *
На 18 мая 1926 года в театре Сары Бернар назначили парижскую премьеру пятьдесят седьмого творения «Русских балетов» – «Ромео и Джульетты». Для нас это был уже девятнадцатый сезон. Мне был сорок один год. Я тогда жила в Болгарии, и, поскольку я не могла выступать в тот вечер, Дягилев взял на заглавную роль вместо меня восхитительную Алису Никитину – ввиду возраста ей и роль подходила больше, чем мне. Это была осовремененная версия шекспировской драмы, с хореографией Брониславы Нижинской, сестры Нижинского, на музыку Константа Лэмбера – молодого английского композитора, вошедшего тогда в моду.
По правде говоря, я скрепя сердце согласилась поучаствовать в этой авантюре, в которую меня так настойчиво втравил Серж Лифарь – он танцевал Ромео-летчика наших дней. Поэтому, исполнив роль 4 мая в Монте-Карло, я «попросила отставки». Добавлю в качестве анекдота, что Лифарь, который был моложе меня на двадцать лет, проявил ко мне интерес, вызвавший ярость у Дягилева, ревнивого по натуре. Случайно увидев букет, приготовленный для меня молодым партнером, Шиншилла схватил его, растоптал, гневно порвал и выбросил в окно.
Откровенно юмористический и экстравагантный, балет «Ромео и Джульетта» воскрешал избитый, но всегда успешный прием «театра в театре». Интрига разворачивалась за кулисами театра, где танцевальная труппа репетирует настоящих «Ромео и Джульетту». Самым успешным был тот момент, когда под поднимавшимся, но еще не совсем поднятым занавесом становились видны отплясывающие ноги танцоров, еще репетировавших выход. Другие моменты повергали меня в замешательство – как, например, сцена любви в форме па-де-де, на мой вкус, уж слишком откровенная. Особенно же меня страшил финал – там я, балансируя на плечах у Лифаря, должна была улетать со сцены, изображая самолет! Художникам Жоану Миро и Максу Эрнсту – оба симпатизировали сюрреалистическому движению, то есть коммунистическому – поручили нарисовать декорации: в глубине сцены – рамы и холсты, стилизованные фигуры и концентрические круги.
Даже при том, что этот скандал не так знаменит, как вызванные «Послеполуденным отдыхом фавна» и «Свадебкой», – но скандал после «Ромео и Джульетты» Лэмберта и Нижинской заслуживает рассмотрения – ибо в нем богатая пища для назиданий. Серж Лифарь и Алиса Никитина, как и многие другие свидетели, рассказывали мне о нем, и меня очень удивила эта история, поскольку монакская премьера 4 мая от начала и до конца прошла совершенно спокойно.
Восемнадцатого мая в Париже в начале представления ничто не предвещало бури, но едва пошла вторая часть, как из зала послышался оглушительный свист вперемешку с отменной бранью. Должно быть, простодушные зрители, среди которых было много иностранцев, решили, что это режиссерские приемы и так задумано (разве это не «сюрреалистический» спектакль?), так как при этом лица сидевших в зале на несколько минут озарили веселые улыбки. So fashionable! [41] – радовалась одна дама. Когда шум усилился, эти же лица помрачнели и послышались требования сперва соблюдать тишину, потом – выдворить бузотеров из зала. Им ответили словом генерала Камбронна [42], распеваемым на все лады.
С галерки полетели листовки. Они были подписаны Андре Бретоном и Луи Арагоном, ангажированными поэтами, неплохо усвоившими уроки футуристов и дадаистов. Заложив руку за жилет точь-в-точь как Наполеон, гордо вскинув голову, человек, усевшийся на бортике авансцены, истерически вопил: «Мне на вас наср**ть! Мне на вас наср**ть!» – это был сам Арагон.
Немыслимая суматоха охватила партер. Кулаки били куда ни попадя, а артисты в это время совершенно невозмутимо продолжали играть спектакль. «На сцене мелькали ножки; в зале мелькали трости», – прочтут в «Ревю мюзикаль». Вызвали полицию, та нагрянула немедленно и разняла дерущихся – кого с разбитым в кровь носом, а кого и с явным фонарем под глазом, и разогнала банду, которая со следующего дня начнет разносить новость, раздувая ее, привирая и преувеличивая, словно водрузив знак ферматы над уже состоявшимся успехом «Ромео и Джульетты».
В моих руках побывала одна из таких листовок. Что в ней говорилось?
Дескать, работая с Дягилевым-капиталистом и его «Русскими балетами», чьей целью всегда было (цитирую) «подчинить потребностям международной аристократии мечты и бунты физического и интеллектуального голода», Макс Эрнст и Жоан Миро «заключили пакт с всевластием денег» и «предали САМО дело» (?). Воспользовавшись «Русскими балетами», левое крыло сюрреалистического движения грубо и жестоко бросало упрек всем, кто «продался работорговцу» Дягилеву. Тем самым Эрнст и Миро, свободные и оригинальные художники, оказывались, как опасные диссиденты, исключенными из авангарда, превратившегося в настоящую секту, столь же нетерпимую, какой станет при Сталине догма социалистического реализма.
Вот так – пока в СССР сотнями казнили ни в чем не повинных людей, свободные и пресыщенные французские интеллектуалы развлекались детскими играми.
Думаю, теперь понятно, почему я всегда сторонилась авангардистов.
Добавлю: единственным, кому удалось не стать посмешищем и ловко выпутаться из этой скандальной истории, оказался Дягилев – именно он, совершенно равнодушный к политике и чьей идеологией была одна лишь забота об искусстве. Поговаривали – и я бы согласилась с таким предположением, – что, втихую предупрежденный о заговоре, который готовили Бретон с Арагоном, он опередил события, посадив среди публики своих людей; была даже одна женщина, дочь каких-то его друзей, которая исподтишка подогревала кулачные бои в зале. Это и не удивительно. Дягилев-манипулятор обожал скандалы, подтверждение чему можно было наблюдать уже не раз. Он понимал: если искусно управлять скандалом – лучшей рекламы и не найти.
Биконсфилд, 18 марта 1969
Вчера утром на меня накатил приступ хандры, и я расплакалась. Часть ночи я провела, роясь в архиве в поисках фотографий «Жар-птицы» в моей любимой постановке 1912 года, где моим партнером выступал Адольф Больм. Но нашла только оттиски с Фокиным. От столь дорогого мне спектакля остался только один кадр, стоящий сейчас на фортепиано.
Увидев, как я расстроена, Эмильенна сказала:
– Мадам Карсавина, вам нужно сменить образ мыслей. Хоть разочек сходите пообедайте в ресторане вместе со всеми.
«Рестораном» называется общая столовая у камина; правда, кухню можно назвать хорошей, а «все» – это мои товарищи по несчастью, все почти такие же старые, как и я сама.
В прежние годы я любила обедать в городе, но если съедать блюда, приготовленные кем-то другим, превращается в необходимость, то вам начинает чего-то не хватать, появляется впечатление, что вас лишили важной роли: готовить для самой себя, в соответствии с собственными потребностями и желаниями. Вот почему я предпочитаю сварить себе