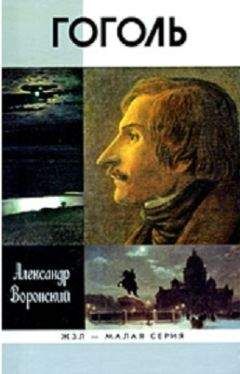Распалённый и обессиленный мечтаниями, я забывал, что я голоден, что до вечера мне надо сделать пятнадцать — восемнадцать вёрст, что я уже две недели не могу найти свободного часа зайти на квартиру, где хранится мой чемодан, сменить бельё, что от худосочья у меня по телу пошли чирьи.
Чаще всего мне приходилось ночевать в переплётной мастерской, куда мы явились впервые. Не очень охотно молодой хозяин всё же давал мне место на столах, заваленных бумагой. Иосиф — так звали хозяина — поразил меня сначала сметкой, расторопностью и деловитостью. С грустью и с некоторой завистью слушал я, как он, будучи года на два старше меня, толково говорил о книгах, о которых я знал только понаслышке, как уверенно отзывался он о людях, чьи имена произносил я благоговейно. Я поражался его житейскому опыту и бывалости. Но вскоре я убедился, что «Историю материализма» Ланге он смешивает с историческим материализмом, «Эволюцию» Гобсона именует «Революцией», считает Плеханова талантливей Бельтова, книг он не читает и занят своим делом. Переплётная мастерская принадлежала не ему, а матери, женщине хитрой и изворотливой. В те времена открылось несколько марксистских издательств, и мать с помощью сына хорошо и своевременно учла это. Иосиф оказывал кое-какие услуги революционерам и получал в то же время с их помощью выгодные заказы. Из захудалой его переплётная делалась доходным предприятием.
Он трусил и надоедал разговорами о сыщиках. Поглаживая руками чёрную, волнистую шевелюру, расширив большие, круглые глаза, он говорил:
— Вчера целый день не давали покоя сыщики. Вышел по делу к товарищу, они за мной. Я — на конку, они — на лихача. Я — в проходной двор. Выхожу на другую улицу, смотрю — они здесь. Подхожу к ним уверенно, спрашиваю: «Где такая-то улица?» — а сам пристально смотрю им в глаза. Смутились, отстали.
Неожиданные ночные звонки делали его невменяемым. Он сначала замирал, бледнел, растерянно озирался, бежал к окну, совал трясущимися руками в кипы бумаг листки, снова прислушивался, разражался бранью, когда, открыв дверь, убеждался, что пришли брат, мать или сестра, — они жили отдельно. Он изводил меня просьбами не держать при себе «ничего такого».
Я не любил бывать у него, но иногда оставался без ночёвки и тогда поневоле пользовался его вынужденным гостеприимством. Не нравилось мне, что он приводил по ночам грустную, бледную фальцовщицу, работавшую у него в переплётной. Однажды я заметил, как совал он ей в руку деньги, а она отталкивала его.
С Валентином я виделся в эти дни редко. Он жил у бородатого товарища в каморке на рабочей окраине, спал на книгах, искал заработка и тоже голодал. Приятель пытал его вопросами: дозволительно ли рабочему жениться на интеллигентке, как можно сделаться писателем. Валентин отвечал ему рассуждениями о противоречиях пола, толковал об эстетике, на что бородатый товарищ разводил недоумённо руками и говаривал: «Очумел, ей-богу, очумел», или: «Опять понёс втёмную», «Чему вас обучают». Но, кроме того, он свёл Валентина с рабочими-туляками, поступившими на металлический завод Розенкранца, и Валентин всё чаще и чаще проводил время в их коммуне, в конце концов перебрался к ним совсем. Кто-то сказал ему, что он не дурно разбирается в аграрном вопросе, но слаб в вопросах тактики. Валентин усиленно изучал «Две тактики», «Шаг вперёд». Он тоже похудел, стал ещё более нервным, но своим положением оставался доволен, готовился в агитаторы.
Всё же нам приходилось трудно. Случайно я вспомнил, что у меня записан адрес Жихаревых. В бытность свою в нашем городе Жихарев занимал видное место в земстве, потом переехал в столицу. Адрес был сообщён мне членом социал-демократической группы Ф. Я. Мягковой. Я сначала не придавал ему значения, но постоянные голодовки заставили меня наведаться к землякам.
В прекрасно обставленной и просторной квартире на Невском меня встретила высокая полногрудая брюнетка тридцати — тридцати двух лет, усадила в кресло, подробно расспросила об общих, правда совсем немногочисленных знакомых, о моем житье-бытье в Петербурге. Я был сдержан, о своей работе упомянул вскользь, более обстоятельно рассказал о своих материальных невзгодах, просил содействия. Играя слоновым ножом и показывая пухлые ямочки на локтях, Жихарева обещала «подумать», поговорить с мужем-врачом, предложила зайти вечером в ближайший четверг.
Я зашёл. Хозяйка провела меня в гостиную с тяжёлой, словно уставшей, зелёной бархатной мебелью. В гостиной сидели уже гости. Жихарева подвела меня к мужу, человеку в сером костюме, с жёстким ртом, с жёсткой и коротко подстриженной бородой. Невразумительно я был представлен и остальным присутствующим. Я заметил несколько фраков, тугих манишек, сюртуков, мундир и звезду на груди, бледных барышень и молодых людей с чёткими проборами на голове, понял, что попал на традиционный еженедельник, и увял. На одном из сапог у меня красовалась дыра. В гостиной Жихаревых я остро почувствовал неловкость в ноге, забрался в угол и, прикрывая дыру другой ногой, углубился в лежавший предо мной на круглом столике «Симплициссимус».
Грузный старик, обладатель мундира и звезды, с отёкшим и дряблым равнодушным лицом, откинувшись на спинку кресла, держа руки с пухлыми и волосатыми пальцами на вздутом животе, хрипло, вполголоса рассказывал о Витте и о своём свидании с ним. По его словам, Витте был недоволен политикой правительства. Затем он перевёл разговор на злоупотребления в военном судостроении, их обнаружила недавно ревизионная комиссия.
Его внимательно и почтительно слушали. Хозяйка подошла ко мне, задала несколько вопросов. Я отвечал односложно и больше всего боялся показать продырявленный сапог. Она подозвала светловолосую барышню.
— Познакомьтесь: Наташа тоже приехала из провинции, а я пойду распорядиться.
В нашем углу наступило тягостное и неловкое молчание. Наташа попыталась втянуть меня в разговор. Я отвечал мрачно и невпопад. Барышня смотрела на меня недоумённо.
Попросили в столовую. Яркий свет люстры, строго расставленные приборы, цветы в вазах подействовали на меня ещё более угнетающе. Хозяйка посадила меня возле себя, предложила водки, я согласился. Я был измучен и голоден — первая же рюмка приятно и жарко длинным пламенем прошла по моему телу. Тогда я выпил вторую рюмку.
Разговор за столом сначала носил случайный характер, но потом им овладел молодой присяжный поверенный, с уверенным и холёным лицом и тщательно подстриженной эспаньолкой. Заправив салфетку за ворот, легко работая ножом, вилкой и челюстями, он говорил о судьбах революционного движения.
— Нет, как хотите, — веско выговаривал он довольным баритоном, — пока наш солдатик будет покорной серой скотинкой, у меня нет никакой прочной уверенности в положительном исходе освободительной борьбы. Держит же абиссинский царь страну сотни лет в кулаке и в рабстве с помощью наёмников. А роль янычар в истории Турции…