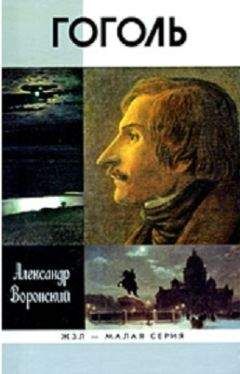Разговор за столом сначала носил случайный характер, но потом им овладел молодой присяжный поверенный, с уверенным и холёным лицом и тщательно подстриженной эспаньолкой. Заправив салфетку за ворот, легко работая ножом, вилкой и челюстями, он говорил о судьбах революционного движения.
— Нет, как хотите, — веско выговаривал он довольным баритоном, — пока наш солдатик будет покорной серой скотинкой, у меня нет никакой прочной уверенности в положительном исходе освободительной борьбы. Держит же абиссинский царь страну сотни лет в кулаке и в рабстве с помощью наёмников. А роль янычар в истории Турции…
Я выпил уже третью рюмку и осмелел.
— Вы полагаете, — вмешался я в разговор неожиданно для себя и, очевидно, для присутствующих, — вы полагаете, что Россия — Абиссиния, а наши солдаты — янычары?
Молодой адвокат даже не поглядел в мою сторону, продолжал:
— Крестьянство забито, невежественно, разрозненно. Поджоги, разгромы усадеб, работа с дубьём и дрекольем — это Пугачёвщина, азиатчина, свидетельство о неспособности нашего мужика мыслить политически. Остаётся пролетариат. Но что же может сделать пролетариат в этом мужицком царстве, когда он численно ничтожен: полтора миллиона на сто пятьдесят — это говорит само за себя.
Терпеть дальше подобные разглагольствования я уже не мог. Лицо адвоката, как и все другие лица присутствующих, казалось мне ярко и чётко очерченным, голос говорившего звучал откуда-то издалека. Я громко и возбуждённо перебил его:
— Рабочих у нас не полтора миллиона, а, по крайней мере, четыре с половиной — пять. Ваши цифры неправильны и произвольны. Наш рабочий уже достаточно показал себя за последние годы.
Адвокат посмотрел так, будто там, где я сидел, было пустое место, вправил манжету.
— Остаётся интеллигенция. Интеллигенция серьёзная культурная сила, но…
Ненавистным показался мне оратор. Наглея и возмущаясь, я докончил за него:
— Но интеллигенция без рабочего может произносить только хорошие и никому не нужные слова.
Адвокат умолк и в первый раз пренебрежительно посмотрел на меня в упор.
— В начале бе слово, — шутливо заметил сановник со звездой, подвигая к себе балык.
Хозяйка шепнула:
— Ого, вы — заноза.
Я громко и упрямо ответил:
— Рабочих у нас несколько миллионов. Это нужно знать каждому.
— Разумеется, разумеется, — пытался успокоить меня через стол Жихарев.
— Рабочих у нас много и будет ещё больше, — упорно твердил я, с ненавистью глядя на адвоката.
Жихарев поспешил дать иное направление разговору. Подали кусты варёной зелени и чашечки с жёлтой жидкостью. Я не знал, что надобно было с ними делать, но стеснительность моя пропала, и я довольно развязно спросил хозяйку:
— Что это за кустики и что с ними делать?
— Это — простите, не знаю вашего имени и отчества, — добродушно улыбаясь, пояснил сановник, — это артишок. Едят его так: отламывают лепесток, кончик у корня обмакивают в соус, потом обсасывают. Попробуйте, очень недурно.
Хозяйка слегка покраснела.
— Спасибо, — вновь угасая, сказал я.
Сановник промолвил:
— Относительно пролетариата, мне кажется, вы правы: орешек, во всяком случае, твёрдый, твёрже остальных.
Я с благодарностью посмотрел на него, готовый зачислить старика в социал-демократы. Ужин окончился. Я поторопился уйти.
Спустя несколько дней я вновь зашёл к Жихаревым.
— Очень кстати, — заявила хозяйка. — Кажется, есть для вас место. Идёмте пить чай.
Мы сидели вдвоём за чаем, когда в столовую зашла миловидная девушка. Я с готовностью двинулся навстречу (дыра в сапоге была починена). Девушка смешалась, еле ответила на моё рукопожатие. Когда она вышла, Жихарева мягко заметила:
— В чужом для вас доме никогда не следует первым знакомиться. Предоставляйте это хозяйке. Вы подали руку горничной. Ну, рассказывайте о себе.
Жихарева дала мне рекомендательное письмо. Вскоре я был зачислен на Варшавскую железную дорогу в службу сборов. Меня приставили к архиву с окладом в сорок рублей. Вместе с Валентином мы сняли комнату на Выборгской стороне и тогда впервые почувствовали, как мы устали за последние полтора месяца столичной жизни. Исполнение поручений Станислава пришлось отнести на вечернее время и на праздники. Валентин нашёл временную работу в издательстве.
Я приглядывался к Станиславу. Он удивлял меня. Казалось, что у него нет внутренностей, нет ничего рыхлого и что сделан он из упругого и лёгкого вещества. Он был небольшого роста, лёгкий и точный в движениях. Острые плечи и узкая грудь, туго натянутая кожа молодили его, но глаза смотрели упорно-сдержанно, взвешивающе и старше его двадцати восьми — тридцати лет. У него был ровный широкий лоб, и во всю его длину от волос до переносья шла резкая складка. Во время разговора он часто потирал её.
Станислав нигде не служил. Его содержала революция. Невозможно было представить его в обычной житейской обстановке, окружённого родными, друзьями, приятелями. Словно у него не было никогда отца, матери, детства, юности, не было прошлого, а вошёл он в жизнь готовым, сложившимся. О своём прошлом он не любил рассказывать. Незатейливые и необходимые вещи в его пустой и чистой комнате выглядели сиро и убито.
Иногда нам приходилось ходить вдвоём по городу, и мне всегда чудилось, что улицы, дома, церкви, лабазы, магазины, особняки, казармы, фабрики с его появлением глухо и враждебно настораживались, наливались мутным беспокойством, будто ждали от чужого им человека нехорошего, какой-нибудь каверзы. Ходил он быстро, чётко постукивая каблуками, бросая кругом короткие и невнимательные взгляды. Он встречался с рабочими, со студентами, с курсистками, но я не помню, чтобы он останавливался на людях больше, чем этого требовало его дело. Бывало, я докладывал ему:
— Александра Петровна не может быть сегодня у вас. Она больна.
— Ага, — равнодушно замечал Станислав. — Тогда нужно вот что сделать… — И он деловито излагал, куда, к кому следует пойти, чтобы этот человек выполнил то, что должна была сделать Александра Петровна.
Кажется, у него не было никаких знакомств, кроме деловых, то есть тех, которые так или иначе связаны с жизнью революционного подполья.
Однажды вскользь, между делом, я сказал ему, что собираюсь вечером пойти в театр.
— Этого вам не следует делать: неконспиративно.
— Разве вы не бываете в театре?
— Не бываю и вам не советую.
Станислав никогда ничему не удивлялся. Он как бы раз навсегда сказал себе: всё, что случается и может случиться, понятно и естественно; так и должно быть, я это знаю, предвидел. Неудачи его не огорчали, к успеху он относился трезво. Ненавидел ли он тот мир, с которым боролся? Да, он ненавидел его, но ненависть его была холодна и презрительна. Когда-то он порвал связи с обычной, нормальной средней жизнью, осудил её и перестал её после замечать. Что же об этом разговаривать, зачем возмущаться, негодовать — это и так давно известно и слишком очевидно. Любимой его фразой было: «Это понятно».