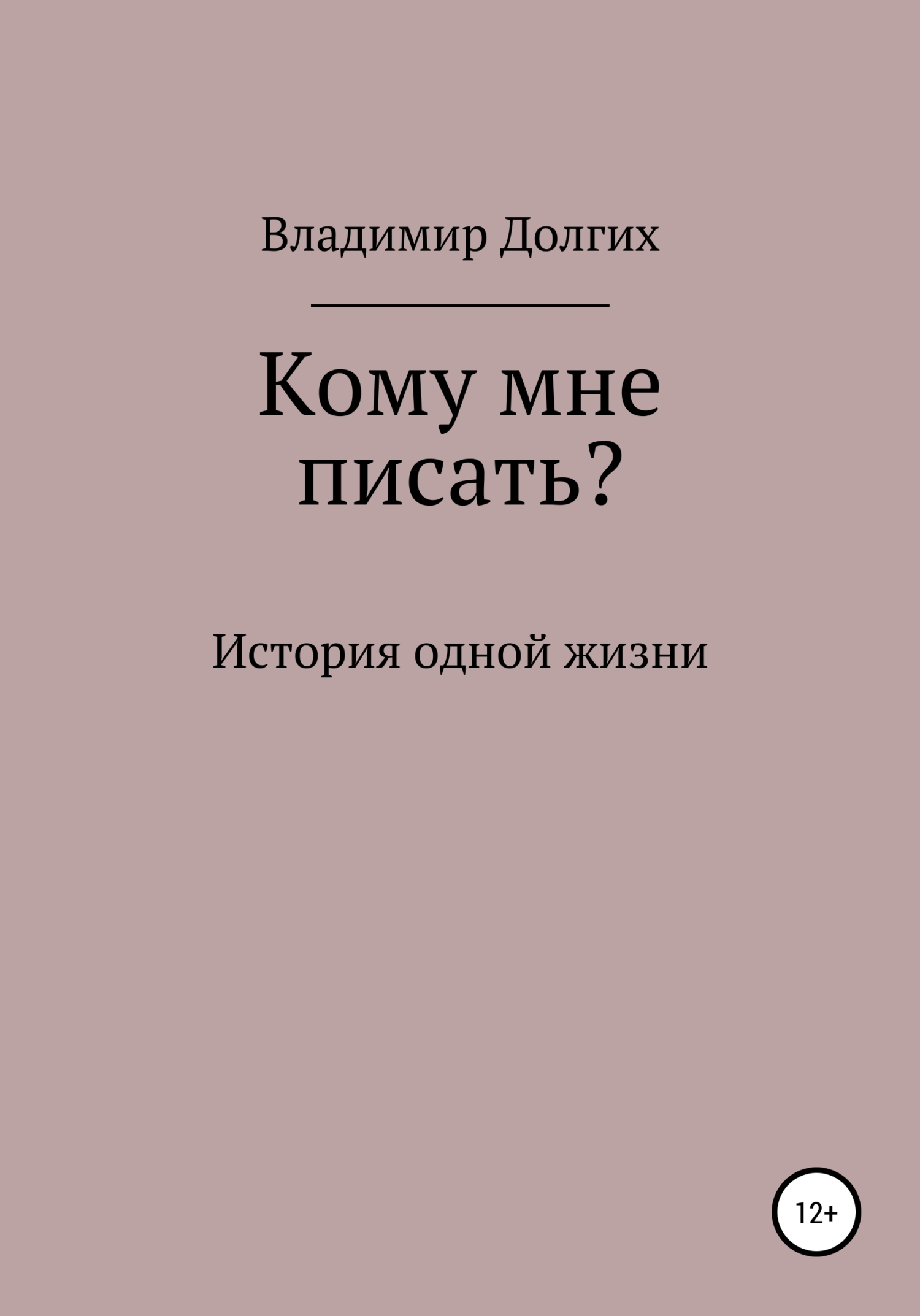газете меня интересовали лишь комиксы.
– Мне об этом ничего не известно, – сказала я, стоя посреди школьного двора в обеденный перерыв, теребя косички впереди и выискивая в толпе дружелюбное лицо. Энн Арчдикон ухмыльнулась, зашлись от хохота и остальные в толпе, собравшейся нас послушать. Они смеялись, пока сестра Бланш, переваливаясь, не подошла к нам выяснить, что происходит.
В прежней школе сестры Святого Причастия держались покровительственно, и, по крайней мере, их расизм выражался в терминах их миссии. В школе же Святой Катерины сестры Милосердия были настроены прямо-таки враждебно. Они никак не маскировали свой расизм, не извинялись за него, и меня он особенно задевал, потому что я оказалась к нему не готова. Дома мне никто не помогал. В классе издевались над моими косичками, из-за чего сестра Виктуар, директриса, послала моей матери записку с просьбой причесывать меня более «пристойным» образом, так как я, по ее словам, была слишком взрослой для «крысиных хвостиков».
Все девочки носили синюю габардиновую форму, которая к весне становилась затхлой, несмотря на частую химчистку. Приходя в класс после переменки, я находила в парте бумажки с надписью «Ты воняешь». Эти записки я показывала сестре Бланш. Та отвечала, что, по ее мнению, христианская обязанность ее состоит в том, чтобы сообщить мне: Цветные люди действительно пахнут иначе, чем белые, однако со стороны детей оставлять такие записки – очень жестоко, ведь я ничего не могу поделать, и если на следующий день я дождусь, когда все вернутся в класс после обеда, а сама постою во дворе, сестра обязательно побеседует с ними о пользе доброго отношении ко мне!
Главой прихода и школы был отец Джон Дж. Брейди, который после того, как мать меня записала, сообщил ей, что никак не ожидал времен, когда придется брать в учебное заведение Цветных детей. Больше всего он любил сажать к себе на колени Энн Арчдикон или Айлин Криммонс и, перебирая одной рукой их светлые или рыжие кудряшки, другую запускать под их синюю габардиновую форму. Мне на этот разврат было плевать, но бесило, что каждую среду он оставлял меня после уроков и заставлял учить латинские существительные.
Другим детям в моем классе давали краткий тест на знание слов, а потом отправляли домой пораньше, так как этот день был коротким и его остаток предназначался для религиозного образования.
Я возненавидела вторую половину среды, когда приходилось сидеть одной в классе и пытаться запомнить единственное и множественное число огромного количества латинских существительных и их родов. Примерно каждые полчаса отец Брейди покидал приходской дом, чтобы меня проверить, и требовал повторить слова. Стоило мне засомневаться хотя бы в одном слове, в форме множественного числа, в роде или запутаться в порядке по списку, как он резко разворачивался на каблуках, скрытых черной сутаной, и исчезал на следующие полчаса, а то и побольше. Хотя в короткий день полагалось отпускать детей в два часа, порой я попадала домой по средам лишь после четырех. Иногда той же ночью мне снились белые, с едким запахом, листы копировальной бумаги: agricola, agricolae, fem., фермер. Когда через три года в старшей школе Хантер пришлось учить латынь всерьез, связанный с ней блок в сознании оказался настолько мощным, что первые два семестра я завалила.
Когда я дома жаловалась на обращение в школе, мать злилась.
– Да какое тебе дело, что они там о тебе думают? Тебе с ними что – детей крестить? Ты ходишь в школу учиться, так что учись, а на остальное не обращай внимания. Не нужны тебе друзья, – ее беспомощности и боли я не замечала.
Я была самой умной в классе, но популярности моей это не помогало. Однако сестры Святого Причастия хорошо меня подготовили, поэтому я успевала в математике и устном счете.
Летом сестра Бланш объявила шестому классу, что мы проведем выборы на два президентских поста – для мальчика и для девочки. Баллотироваться может каждый, сказала она, а голосовать мы будем в ближайшую пятницу. Сестра добавила, что надо принять во внимание достоинство, старание и товарищеский дух, а главное – оценки кандидата.
Конечно же, сразу выдвинули Энн Арчдикон. Она была не только самой популярной девочкой в школе, но и самой хорошенькой. Айлин Криммонс номинировали тоже – ее блондинистые кудри и статус любимицы святого отца это гарантировали.
Я одолжила Джиму Мориарти десять центов, что в обеденный перерыв вытянула из отцовского кармана, и тот представил мою кандидатуру. Другие захихикали, но я не обращала внимания. Я была на седьмом небе. Я знала, что я самая умная девочка в классе, а значит, должна победить.
В тот же день, чуть позже, когда мать вернулась с работы, я рассказала ей о выборах, своем соискательстве и намерении победить. Она пришла в ярость.
– С какой стати тебе сдалось участвовать во всей этой глупости? Ты головой своей не соображаешь, что это тебе не нужно? Что толку в этих выборах? Мы тебя посылаем в школу работать, а не гарцевать: президент тут, выборы там. Доставай рис, детка, и завязывай с глупостями, – мы принялись готовить ужин.
– Но я ведь могу выиграть, мамочка. Сестра Бланш сказала, что пост достанется самой умной девочке в классе, – я хотела, чтобы она поняла, как для меня это важно.
– Не лезь ко мне с этой ерундой. Знать о ней ничего не хочу. И не вздумай в пятницу являться с кислой миной – мол, мамочка, я не победила, – не хочу этого слышать. Нам с отцом хлопот хватает, чтоб всех вас в школе держать, какие уж тут выборы.
Я замяла разговор.
Неделя выдалась длинной и волнующей. Единственной возможностью привлечь внимание одноклассников в шестом классе было обладание деньгами, и благодаря тщательно спланированным набегам на карманы отца каждой ночью той недели у меня накопилось некоторое богатство. В полдень я бежала через дорогу, проглатывала мамин обед и возвращалась на школьный двор.
Иногда, когда я приходила поесть, отец перед работой отдыхал в спальне. За день до выборов я прокралась по дому к закрытым застекленным дверям родительской комнаты: через дырку в портьере было видно, что отец спит. Казалось, двери сотрясались от его могучего храпа. Я смотрела, как с каждым звуком его рот открывался и закрывался, в то время как из-под усов раздавался громогласный рокот. Покрывало было откинуто, а руки отца покоились за поясом пижамы. Он лежал на боку лицом ко мне, его пижамные штаны спереди разошлись. Я видела лишь очертания уязвимой тайны, что бросала тень на прореху в его одежде, и внезапно меня