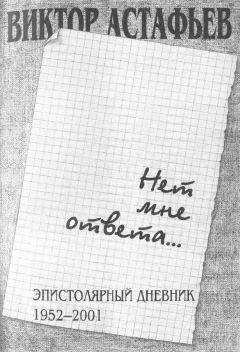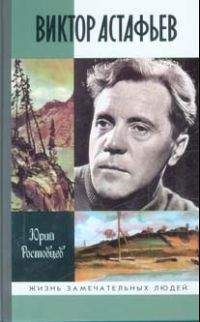Ох-хо-хо! Какое трагическое время подступило, начавшееся с оперетки под названием Октябрьская революция. Попрыгали, попели, красными тряпочками помахали, ляжками покрутили — и вот проснулись! Да и проснулись ли? Очень уж крепко мы любим спать, и боюсь, когда проснёмся, даже матрац из-под нас уже будет вытащен и унесён.
Ну, простите меня. Дело к вечеру, устал, побрюзжать тянет. Как получите первый том, подтвердите телеграммой, и я тут же вышлю Вам второй, а там а третий подойдёт. И напишите, пожалуйста, имена-отчества своё и супруги Вашей.
Низко Вам кланяюсь и от всего сердца мы благодарим Вас за посылку. Виктор Петрович и Мария Семёновна Астафьевы
12 февраля 1992 г.
Красноярск
(А.В.Астафьевой)
Здравствуй, Анастасия! Письмо твоё пришло в те дни, когда я находился в работе, в середине очень для меня трудной и, наверное, последней книги — романа о войне. Пока ещё вожусь с первой книгой, а всего должно быть три. Сейчас, совершенно измотанный, лежу иль сижу и смотрю телевизор. Да ещё умудрился простыть и захлюпал лёгкими. Сил моих уже хватает только-только на работу, всё остальное приходится отстранять, даже почту. Годы берут своё — нынче весной мне исполнится 68 лет — это возраст, особенно для бывшего фронтовика. Жизнь нынче такая, что я стараюсь из дома не выходить, в город не спускаться (Академгородок находится на Гремячей горе, километрах в восьми от города, но город подползает к нему), а меня нет-нет и здесь достают какие-то делишки, которые оказываются важнее моих дел, и неприятности, чаще с почты, с телефонной станции, из родной деревни (она близко) иль ещё откуда.
Нынче мне уже немного надо, чтобы потерять равновесие, выбиться из рабочего состояния.
Но живём помаленьку, растим внучат — Поле исполнилось уже 9 лет, Вите весной будет 16 лет. Нельзя сказать, что растут у нас лучшие дети на свете, они обычные, они как все нынче, и ленивы, и непослушливы, и норовисты порой, но в них и горе, и редкие радости. Однако детей надо иметь и растить вовремя, на старости лет эти нагрузки оборачиваются перегрузкой.
Но я всегда основывался на той морали, что есть люди, которым куда как тяжелее, чем нам, и надо безропотно нести свой крест, он именно тот крест, который взвалил на тебя Господь.
А знаю такие судьбы вокруг, что слово «тяжело» слишком мягко и ласково для них. Есть семьи и люди, которые искупают вину перед Богом за весь наш грешный, жалкий жестокий народ, отринувший Бога, веру, докатившийся до предательства детей и родителей своих, до братоубийства, до поругания могил и святой молитвы.
Искупят ли? Слишком стадо велико и бесчувственно, слишком далеко мы зашли в обесценивании жизни и крови, слишком потерялись в мире.
Во мне всё меньше и меньше остаётся веры в спасение нашего народа и страны. Самое главное, что наш народ не хочет сам спасаться, а ждёт его от властей, от нас и даже от главного преступника века нашего, покойного неприкаянного вождя. Самосознание народа нашего ещё никогда не было так низко, и никогда он ещё не сближался так близко со скотом, удел которого определил ещё Пушкин — «ярмо с гремушками да бич» и «их только резать или стричь».
Ну да будет, как будет.
Что я должен сделать, чтобы помочь тебе? Чем? Когда? Как? Письмом, даже самым длинным, не поможешь. В Вологду я приехать не могу. Всё. Эта земля, этот город, со смертью Ирины отделены от меня непреодолимой преградой — могилой, которую я уже не смогу переступить.
Может, мне позвать тебя?
Или в деревню, я там живу летом, или в другое какое место? Дома это сделать невозможно. Марья Семёновна живёт и работает из последних сил. Два инфаркта подряд и вновь начавшийся туберкулёзный процесс кости приземлили её, и она живёт только на лекарствах, глотая их горстями, растит детей и ещё помогает мне. Я даже мысль от себя страшную гоню о том, что будет с нами, если её не станет, а один раз она уже была полминуты в клинической смерти, и спас её Господь для детей, спас тем, что врач, живущая под нами, оказалась дома.
Весной нынче я уезжаю на Урал (нужно для романа), лето тоже получается раздёрганное, но осенью я бы смог, где-то в сентябре, встретиться с тобой и чем-то помочь, а может, и душу облегчить, как-то узнать друг друга, хотя я понимаю, какую ответственность, какой груз взваливаю на себя. И выдержу ли? Но... Но всё во власти Божьей. Как ему будет угодно.
Я иногда бываю в церкви, молюсь за покойных и живых, помолюсь и за тебя, чтобы Господь помог тебе в твоём столь ответственном возрасте, как помог, помогал и помогает он мне всю мою жизнь, в которой допустил я не один безответственный поступок, в том числе и в том, ничем не приметном, 74-м году...
Вот пока и всё. Благословляю тебя, целую в умную головку и желаю, чтобы она не вскружилась в этом возрасте, а дальше, Бог даст, лучше всё будет.
Храни тебя Бог. Поклон тёте Зине и матери тоже — мать даже непутёвая от Бога, молит об этом. Виктор Петрович
16 февраля 1992 г.
Красноярск
(В.С.Камышеву)
Дорогой Валентин Семёнович!
Получив Ваше поздравление с Рождеством Христовым на такой чудесной открытке, я надеялся быть в Москве, позвонить Вам и, возможно, где-то встретиться и поговорить. Но не вышло и теперь, как я понимаю, не скоро и выйдет. Предлог-то ехать в Москву на последний съезд писателей СССР, видимо, отпал. Пока так называемые писатели драли друг на дружке рубахи и доказывали кто из них писателистее, будущий съезд стал стоить 15 миллионов рублей, а таких денег в писательской казне нету. Те, что собрал Иван Калита по прозванию Георгий Марков, его последователи растранжирили, может, и разворовали, эти художники своего времени на всё способны.
Я тем временем работал, продолжал мозолить первую часть романа о войне, кажется, уже видно и какие-то итоги, надеюсь на исходе весны сдать рукопись в «Новый мир», если он к той поре ещё будет выходить.
В этот раз продолжить работу мне было весьма и весьма трудно. В конце лета и осенью, я, как обычно, поехал на Енисей, в тайгу, где всегда набирался бодрости и сил для работы. Прошлой же осенью я вернулся с Севера совершенно разбитый — наши все смуты и особенно отсутствие еды такой бедой, таким монгольским нашествием обрушились на природу, что и вообразить-то невозможно это, не увидев. Всё спиливается, рубится, бьётся, вырывается с корнем, вылавливается из воды всё, что смеет жить и шевелиться.
Боже, какое всё-таки чудище человек-то! И не зря, не напрасно Господь приговорил его к гибели, и ныне это стадо само бежит-торопится к пропасти. И невольно вспоминается сердитый и справедливый Лев Толстой: «Пусть вся эта цивилизация погибнет к чёртовой матери, вот только музыку жалко». Да, жалко и Пушкина, и Сервантеса, и Рафаэля, и Лермонтова, и Прадо, и Третьяковку, и Шуберта, и Рахманинова, многое другое, что в муках накопило человечество, причём всё время продираясь сквозь непонимание, неприятие, злое отчуждение при жизни и убийственную зависть, высокомерие, а то и проклятия.