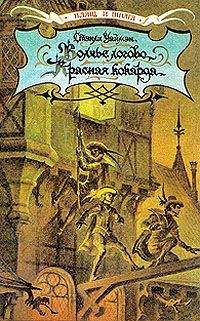На «Микаса» вспыхивал прожектор и начинал шарить своей голубой метлой по Чуркину мысу, по кровле нашего домика. Трубила сигналы труба. Электрическая искра бегала по высокой мачте здания Морского штаба, и светящиеся мухи, как фонарики духов, населявших эту знойную и душную ночь, прыгали в ветвях деревьев.
В эти дни в городе доживали последние сибирские — колчаковские — деньги. Помню такой эпизод.
Я получил в газете свое первое жалование: двести с чем-то иен. В два часа, как всегда, я пошел обедать, и, как всегда, в дешевую городскую столовую, где обед стоил на сибирки 500 рублей (30 сен на иены). Обедали здесь главным образом беженцы, привык к ней и я.
Столы поставлены тесно, за ними много женщин. Коша, расплачиваясь и ища мелочь, я вместе с нею вынул из кармана и две стоиенные кредитки, — разговоры за соседними столами мгновенно смолкли. Я никогда не забуду ошеломленное выражение нескольких пар жадных женских глаз, приковавших взгляд к моим рукам, шелестящим деньгами. Продли я пытку, право, нельзя было поручиться, что какая-нибудь из этих женщин, загипнотизированная шелестом и видом денег, не бросилась бы на меня и не попыталась отнять их.
Так непомерно велики были для беженцев эти маленькие деньги.
Когда я уходил, женщины, оборачиваясь, провожали меня просительно-ласковым взглядом. Вероятно, каждая из них пошла бы за мной, если бы я сделал знак.
Может быть, вечером некоторые из них бранили своих мужей или любовников, укоряя:
— Другие где-то достают же деньги, а ты… — и т. д.
Прошел месяц или два. Газетенка мне надоела, ею больше занимался теперь мой полковничек. Я купался в море, загорал. К этому времени жил я уже в городе. Стихов после дебюта в «Голосе Родины», сделавшего меня редактором газеты, я больше не писал. Не писал до тех пор, пока в «Далекой Окраине» не увидел стихов Асеева:
Оксана, жемчужина мира,
Я, воздух на волны дробя,
На дне Малороссии вырыл
И в песню оправил тебя…
И так далее.
Или еще:
Надушен магнолией
Нежный воздух юга,
О, скажи, могло ли ей
Снится сердце друга…
— Вот это стихи! — подумал я. — Надо и мне научиться так писать.
С тех пор всё, что я сочинял и находил хорошим, я посылал в «Далекую Окраину», и там, начиная с первого, посланного мною, все стихи печатались. Кто я такой, никто не знал. Мной заинтересовались.
Стороной я проведал, что про меня говорят, будто я горбун, урод, не желающий, чтобы это знали, а потому никому не показывающийся. Меня это забавляло, и потому я продолжал хранить свое инкогнито еще несколько месяцев.
Но во Владивостоке существовал литературно-художественный кружок и при нем «Балаганчик» — веселый кабачок, где читались стихи, доклады и прочее. Душой его был С.Третьяков. Соблазн был слишком велик. Мне хотелось познакомиться с обоими поэтами (т. е. и с Асеевым).
Особенно я полюбил Третьякова. Мою «Владиво-Ниппо» мне простили, может быть, потому, что эта газетенка не была злой и вреда, собственно, никому не делала.
Познакомился я тут, между прочим, с замечательным человеком — Юрием Галичем. Он теперь у вас в Европе. Он так учил меня писать стихи, и я должен был его слушать (но не слушаться, конечно), ибо он был в чине генерала генерального штаба (генералом в квадрате), а я только поручиком.
Показывая разграфленный лист бумаги, Галич говорил:
— Вот, например. Я хочу написать морское стихотворение. Ну, скажем, вроде «Капитанов» Гумилева. Для этого я делаю так. Мне необходим морской словарь, морские слова, язык. И вот в эту клетку я пишу, например, слово «румпель» и затем начинаю подыскивать румпелю морскую рифму.
— Кумпол! — говорю я, улыбаясь.
— Какая же это морская рифма? — не соглашается генерал. — Она хороша была бы для юмористического стихотворения. Нет, я беру «румб» и ищу в словаре значения этого слова. Затем беру, скажем, «бизань» и к нему…
— Рязань?
— Нет. Ищу что-нибудь морское… словом, потом, когда все клетки-рифмы заполнены, я начинаю подбирать и прочие слова.
Этот генерал издал во Владивостоке книгу стихов, названную им, кажется, «Свиристели». Возможно, что так назывался лишь отдел в его книге, но все же «Свиристели» — были. С. Третьяков, он был тогда товарищем министра внутренних дел, хотел его за бездарность этой книги выслать из Приморья. Отговорили.
Во Владивостоке в то время было около пятидесяти действующих (как вулканы) поэтов. Из них помню Рябинина, талантливого мальчика-наркомана, уехавшего в СССР и там затерявшеюся, чрезвычайно даровитого Венедикта Марта, тоже наркомана и тоже позже уехавшего в СССР. Его брата Фаина («фаин», китайское слово, обозначающее особое состояние после курения опиума), конечно же, наркомана и вдобавок еще и клептомана, уехавшего в СССР и там, по слухам, расстрелянного за участие в грабеже.
Других забыл.
Все они вертелись около «Балаганчика». Многие, как, например, Рябинин, в нем жили, то есть спали. Когда у Рябинина не было денег на водку или кокаин, он срезал огромными кусками ситцевую обивку стен и продавал материю. Третьяков приходил в ярость.
В «Балаганчике» часто устраивались конкурсы стихов на премию. Однажды я за стихотворение получил 50 иен — франков пятьсот по теперешнему курсу. «Современные записки» вот уже несколько лет должны мне за два стихотворения 76 франков.
Так мы и жили.
Но назревал новый переворот. Японцы вооружили разоруженные части каппелевской и семеновской армий, просочившиеся в Приморье. Однажды Мой японец сказал мне:
— Э!.. Эт-то!.. как его?.. кажется, завтра будет переворот.
— Это определенно?
— Определенно не извецно, но кажется.
Я поехал к Николаю Меркулову, который мне нравился басистой раскатистостью жестов. Дома его не было.
— Завтракает в ресторане «Золотой Рог».
Знаменитого человека я застал в большом кабинете с балкончиком в общий зал. С ним было еще двое каких-то господ. На столе стояла водка и на закуску только что поданные отварные, дымящиеся, нежно-розовые китовые пупки с картофелем.
Выпил и я.
— Я думаю так: Приморье должно стать японским генерал губернаторством! — сказал Меркулов, когда я ему сообщил о готовящемся перевороте. Сказал и поглядел на меня вопросительно, ища сочувствия. Я пожал плечами. Я ничего не имел против японского генерал-губернаторства.
Но переворот в эту ночь не состоялся. Он произошел лишь через несколько недель.