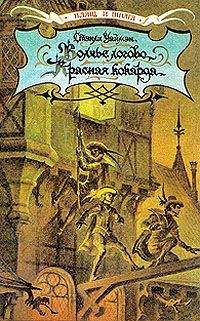Остаюсь в твердой уверенности, что не меня первого будут арестовывать, а следовательно, удрать всегда успею — не сушей, так морем.
Еще несколько дней. Регистрации, высылки, аресты, правда, немногочисленные. В бухте Золотой Рог — для охраны резидентов, — японский броненосец и армейский крейсер.
На улицах шествия, красные знамена и «Красное Знамя», перекочевавшее из сопок в типографию, где неделю назад печатался дитериховский официоз. Во «Владиво-Ниппо» — кореец-цензор. «Владиво» завтра самоликвидируется — большевики не помешали выпустить при них еще два номера.
Звонок по телефону.
— Кого?
— Несмелова.
— Я, кто, говорит?
— Редактор «Красного Знамени» Рахтанов.
— Я к вашим услугам.
— Мы предлагаем вам заведовать в нашей газете литературно-художественным отделом. Согласны? Ответ немедленно.
— Согласен…
В тот же вечер я познакомился с милейшим из коммунистов Рахгановым, два года спустя исключенным из парши и затем вскоре умершим от заворота кишок. Настоящая его фамилия была Лейзерман, его мать имела, а может быть, и сейчас имеет аптеку в Харбине.
В вечер знакомства я с Рахгановым отлично поужинал в кабинете ресторана «Золотой Рог», в том самом, где когда-то ел с Меркуловым отварные китовые пупки. Мы быстро договорились по всем вопросам. Оказалось, что мое литературно-художественное «заведование» сводилось лишь к писанию ежедневных стихотворных фельетонов. Для начала это было неплохо.
На другой день я выругал Меркулова, и сделал это не без удовольствия.
Однако Рахтанова, проявлявшего слишком большой интерес к владивостокским ресторанам, скоро места лишили. Право, это был замечательный человек. Всегда он был весел, остроумен жизнерадостен. Был он и хорошим оратором. Я всегда с большим удовольствием слушал его выступления перед рабочими Он умел зажигать и говорил умно. Между прочим, являясь в редакцию уже перед версткой, к тому времени, когда надо было гасить линотипы, — он диктовал передовицы прямо линотиписту, так что слово его, минуя бумагу, непосредственно отливалось в металл.
И все-таки, несмотря на все эти таланты, Рахтанова убрали. Новый редактор сказал мне:
— Позвольте, товарищ, но не вы ли редактировали русское издание «Владиво-Ниппо»?
— Да, это я.
— Тогда вам у нас не место.
Я был с ним вполне согласен и поэтому не протестовал, но дело осложнялось тем, что для того, чтобы получить какую-нибудь работу, я должен был стать членом союза. Увы, ни в один из союзов меня не приняли.
Когда я пришел туда в первый раз, меня спросили:
— А кто вас, товарищ, может рекомендовать с хорошей стороны?
— Моя книга стихов! — гордо ответил я.
— Справимся, — отвечали мне, пожимая плечами. Справлялись и отказывали.
Жизнь в городе стала мне не по карману. Я перебрался за Чуркин мыс, за сопки, в бухту Улисс. Где жить, мне стало уже безразлично: у бухты этой было, по крайней мере, красивое имя. Рядом с моим домиком, еще выше в гору, находилось кладбище, и на нем, в двух лачугах, ютились сестры женского монастыря. При монастыре жил батюшка, восьмидесятилетний слепой священник, всё еще отправлявший требы. Я любил слушать, как он служит на могилах.
Позвольте привести мои стихи об этом кладбище, посреди которого, обсосанный тайфунами, высился гранитный памятник защитникам «Варяга». Я люблю это стихотворение, но его почему-то нигде не печатают.
КЛАДБИЩЕ НА УЛИССЕ
Подует ветер из проклятых нор
Пустынной вулканической Камчатки,
Натянет он туман на зубья гор,
Как замшевые серые перчатки.
Сирена зарыдает на мысу,
Взывая к пароходов каравану.
На кладбище, затерянном в лесу,
Невмоготу покойникам… Восстанут.
Монахиня увидит: поднялись
Могучие защитники «Варяга»,
Завихрились, туманом завились
И носятся белесою ватагой.
И прочитает «Да воскреснет Бог»,
И вновь туман плывет текучей глиной,
Он на кресте пошевелит венок,
Где выцветает имя — Флорентина.
Встает бледна, светла и холодна,
В светящемся невестином наряде…
Двенадцать лет она уже одна,
Двенадцать лет под мрамором, в ограде.
О, если б оторваться да креста,
Лететь, лететь, как листья те летели,
Стремительным кружением листа,
В уют жилья, в тепло большой постели!
И розоветь, как пар в лучах зари,
И оживать, и наливаться телом,
Но дальние заныли звонари,
За сопками, в тумане мутно-белом.
И прячется в истлевшие гроба
Летучая свистящая ватага…
Трубит в трубу, тайфун его труба,
Огромный боцман у креста «Варяга».
Бухта Улисс, 1923 год.
А вот еще одни стихи, написанные тоже в бухте Улисс уже зимою:
Я живу в обветшалом доме
У залива. Залив замерз.
А за ним, в голубой истоме,
Снеговой лиловатый торс.
Та вершина уже в Китае,
До нее восемнадцать миль.
Золотящаяся, золотая,
Рассыпающаяся пыль!
Я у проруби, в полушубке,
На уступах ледяных глыб —
Вынимаю из темной глуби
Узкомордых, крыластых рыб.
А под вечер, когда иголки
В щеки вкалываются остро,
Я уйду: у меня на полке
Как Евангелие — «Костер».
Вечер длится, и рдеет книга.
Я — старательная пчела.
И огромная капля мига
Металлически тяжела.
А наутро, когда мне надо
Разметать занесенный двор,
На востоке горы громада —
Разгорающийся костер.
Я гляжу: золотая глыба,
Великанова голова.
И редеет, и плещет рыбой
Розовеющая синева.
И опять я иду на льдины,
И разметываю лесу,
И гляжу на огни вершины,
На нетлеющую красу…
Если сердце тоска затянет
Под ленивый наважий клев —
Словно оклик вершины грянет
Грозным именем: Гумилев!
Конец моей жизни во Владивостоке загибается к ее началу, как хвост змеи к ее голове. В городе осталась одна лишь некоммунистическая газета, а именно «Голос Родины», где когда-то я напечатал свое первое стихотворение. Редактор-издатель ее М.Н. Вознесенский стал печатать мои фельетоны.