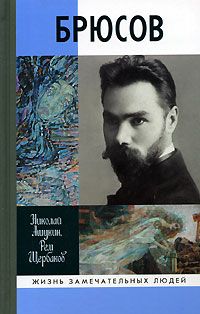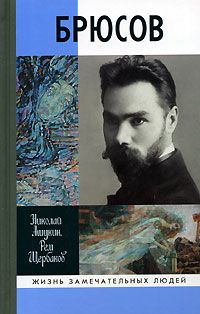Трио музыкантов подходит к авансцене. В первом ряду сидел юбиляр, окруженный множеством друзей, представителями искусства, журналистами. Музыканты садятся. Внимание зала сосредоточилось на них. Воцарилось глубокое молчание. <…>
Звучит, звенит песня, сладостная, такая проникновенная… Гехарик, кажется, сам превзошел себя — поет он свободно и взволнованно. <…> Кончили. Поднялись с мест, и под хлопки тысяч людей Гехарик берет кяманчу и направляется со сцены к залу. На какое-то мгновение аплодисменты затихают, зал недоуменно смотрит: Гехарик спускается, подходит к юбиляру, опускается на колени, не проронив ни слова, молча склоняется перед ним и кладет к его ногам свою кяманчу… Ведь по старинной традиции саз, кяманча шуга, потерпевшего поражение в состязании, принадлежит победителю!
Брюсов встает: ему известны все детали этой старинной ашугской традиции. Он встает и поднимает Гехарика. Они обнимаются… От волнения на глазах поэта показались слезы…
Неожиданной и необычной оказалась эта дань уважения и любви к поэту… Все совершалось в абсолютно безмолвном зале (Степанян Аро. Встречи с поэтом // Литературная Армения. 1959. № 5. С. 108-109).
ВАЛЕРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ БРЮСОВУ (Стихотворение, присланное в день юбилея)
Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.
Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы: жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.
Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.
Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка – улыбаться, мучась?
Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?
Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?
Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?
Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.
Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снесть
Пережитого слышащихся жалоб.
Б. Пастернак
(Валерию Брюсову. М., 1924. С. 65).
Красно-золотой, сверкающий огнями Большого театра, переполненный самой разнообразной публикой: сапоги, гимнастерки и тут же смокинги и вечерние платья. Прежде чем уйти на сцену в президиум торжественного заседания, Анатолий Васильевич вместе со мной из ложи рассматривает публику. Как много знакомых лиц среди собравшихся, здесь все московские литераторы — в какой-то мере это и их праздник; вот приехавшие из Петрограда Георгий Евреинов, академик Державин, в дипломатической ложе один из бывших соратников Брюсова по «Скорпиону» Юргис Балтрушайтис, московский поэт, теперь посланник Литвы. Борясь с одышкой, по партеру проходит Сумбатов-Южин, так долго вместе с Брюсовым возглавлявший <«Литературно-художественный> кружок»; а на ярусах шумит, как морской прибой, молодежь — студенты, рабфаковцы, среди них чувствующие себя сегодня «хозяевами» и гордые этим слушатели Высшего литературного института. Обращает на себя внимание смуглые, черноволосые люди в зале, слышится гортанная речь — это приехала армянская делегация из Еревана, и пришли на чествование Брюсова московские армяне — они благодарны Брюсову за великолепную антологию армянской поэзии. В фойе правительственной ложи Анатолий Васильевич что-то пишет карандашом в блокноте. Оказалось, он сложил экспромт, который тут же на вечере прочитал:
Как подойти к Вам, многогранный дух?
Ух многим посвящал я дерзновенно слово
И толпам заполнял настороженный слух
Порой восторженно, порой, быть может, ново.
Но робок я пред целым миром снов,
Пред музыкой роскошных диссонансов,
Пред взмахом вольных крыл и звяканьем оков,
Алмазным мастерством и бурей жутких трансов.
Не обойму я Вас, не уловлю я нить
Судьбы логичной и узорно странной.
И с сердцем бьющимся я буду говорить
Пред входом в храм с завесой златотканой.
(Луначарская-Розенель Н. С. 61, 62).
Неотчетливо вспоминаю празднование 50-летнего юбилея Брюсова в Большом театре в 1923 году. Помню, что сидела с Маяковским в ложе. Был, наверно, и президиум, и все такое, но сейчас вижу Брюсова, одного на огромной сцене. Нет с ним никого из былых соратников – ни Бальмонта, ни Белого, ни Блока… Кто умер, а кто уехал из советской России. <…> Маяковский вдруг наклонился ко мне и торопливо прошептал: «Пойдем к Брюсову, ему сейчас очень плохо». Помнится, будто идти было далеко, чуть ли не вокруг всего театра. И нашли Брюсова, он стоял один за кулисой, и Владимир Владимирович так ласково сказал ему: «Поздравляю с юбилеем, Валерий Яковлевич!» Брюсов ответил: «Спасибо, но не желаю вам такого юбилея». Казалось, внешне все шло как надо, но Маяковский безошибочно почувствовал состояние Брюсова (Брик Л.).
После юбилейного чествования в Большом театре, которое закончилось к 12 часам ночи, активисты-брюсовцы по списку приглашались на студенческий банкет в здание института. Было человек 80, десятая часть студенчества. Мы собрались к часу ночи у накрытого стола, где было вин о и всякие редкие для того времени яства. Валерий Яковлевич подъехал очень быстро, все обрадовались и несколько удивились, что он так быстро покинул общество «больших людей».