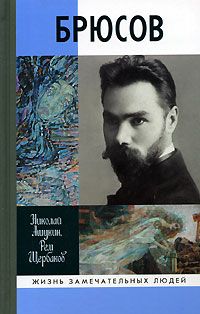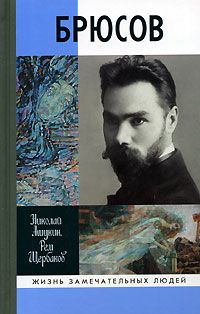— А мой отчий дом как раз здесь, среди вас! — объяснил Валерий Яковлевич. Как же весел, обаятелен, остроумен и чистосердечен, ясен и молод душой почти до детской наивности был Брюсов в ту юбилейную ночь! (Ясинская З. Мой учитель, мой ректор // БЧ-1962. С. 317).
Ужасно жалею, что не могу присутствовать на Вашем торжестве. <…> Мне лично было бы особенно приятно приветствовать Вас, и вот почему.
Как-то особенно ярко встает сейчас в памяти прошлое — наши студенческие годы. Помните наш студенческий литературный кружок — наши собрания — часто — у Вас на квартире на Цветном бульваре — наши споры и наши «симпозионы». Вижу ясно, как будто это вчера, как Вы читаете доклад о «Ринальдо» Т. Тассо, слышу ясно, как Вы читаете стихи, которые потом появлялись в маленьких книжках в розовой обложке, все еще звучат в ушах моих — «Серебро, огни и блестки, целый мир из серебра». <…>
Все это — и еще много других эпизодов — встает сейчас в памяти особенно выпукло, и потому мне было бы особенно приятно приветствовать Вас от имени университета (хотя не мне это поручено) — Вас, участника этого студенческого кружка, ставшего преподавателем университета.
Если бы здоровье мне позволило, я постарался бы сегодня, когда Вы услышите много лестных слов о Вашей деятельности как ученого и поэта, выявить, какое большое значение – воспитательное и поучительное – имеет Ваш образ для современных поколений (Письмо В. М. Фриче от 16 декабря 1923 года // ЛН-98. Кн. 2. С. 563, 564).
<…> жалостный в своем горьком величии юбилей, о Барсов сумел порвать и с «академиками» и с «почитателями». «Символистом – Брюсовым» гордилась вся меценатская и художественная Москва. Как же: «наш» ученнейший эрудит! Друг Верхарна! Вождь московской школы! Певец города! Знаток древних! Первоклассный поэт, переведенный чуть ли не на все языки мира!
«Брюсов-коммунист?» — Но это же ужас! Карьерист! Изменник интеллигенции! Да и стар уже! Юбилей? Вот посмотрим, как он будет праздновать юбилей со своими коммунистами?!
И, надо сознаться, юбилей сумели превратить в пытку. Никто из былых соратников не «удостоил» чествовать действительно же большого поэта и крупнейшую культурно-поэтическую фигуру начала столетия. Швырявшие стулья в начале его поэтической деятельности не посмели этого сделать, конечно, теперь. Но они оставили пустыми эти стулья как знак своей мести, как символ проклятия «отступнику» от их традиций, от их куцего жизненного трафарета.
Рабочим и крестьянам не мог быть близок В. Я. Брюсов с его специфической деятельностью поэта-модерниста, поэта-ученого. Рабочим и крестьянам нужно запомнить много имен, непосредственно посвятивших свою жизнь борьбе за их дело. И юбилей В. Я. Брюсова не мог быть особенно популярным, как и юбилей всякого кабинетного ученого. Звание «народного поэта», конечно, было бы натяжкой в применении к нему. <…>
Мы, лефовцы, отказались от участия в юбилее из ненависти ко всяким юбилеям. Но помню, как мы зашли к В. Брюсову в артистическую пожать ему руку, — в ответ на пожелание одного из нас пережить еще двойной юбилей Ваерий Яковлевич, горько улыбнувшись, ответил:
— Нет, уж довольно одного! Не желаю вам встретить такого (Асеев Н. Валерий Брюсов // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1924. 11 окт. № 233).
Простите за то, что я совершенно сознательно не явился на Ваше чествование в Большой театр. Я очень не люблю публичных торжеств. Смею Вас уверить, что Ваш юбилей для меня значительно дороже, чем для многих из тех, кто присутствовал официально на чествовании. <…>
Мне очень грустно, что уже долгое время мы в силу литературных условий оказываемся как бы по две стороны баррикад искусства. Но даже при этом положении я ни одной секунды не забываю, что только Вы и Ваше искусство помогли мне выучиваться писать стихи. Мне очень горько, что среди целого ряда Ваших учеников я оказался в положении одного из наиболее Вами нелюбимых, но и это нисколько не меняет моего чувства глубокой признательности и искренней любви к Вам. Тем с большей внимательностью я всегда относился ко всем Вашим устным и письменным критическим замечаниям обо мне, в частности, и о русской поэзии вообще, хотя зачастую не соглашался с ними. Позвольте еще раз пожелать Вам всего самого светлого и лучшего.
Еще более обидно мне, что в эти дни, дни Вашего торжества, как человека и поэта, некоторыми газетами поднята совершенно непристойная демагогическая травля Вас на почве обиженного самолюбия Серафимовича (Письмо В. Г. Шершеневича от 17 декабря 1923 года // ЛН-98. Кн. 2. С. 564).
Между прочим, за последнее время установилась мода скопом набрасываться на «классичность» форм Брюсова, упрекать во всех поэтических грехах вплоть до контрреволюционности.
Формально такое мнение может быть высказываемо, конечно, с той или иной дозой приблизительного правдоподобия. Но когда это академическое, в конце концов, предположение подхватывается боевыми перьями, в свое время выщипанными тем же Брюсовым из общего хвоста критики — становится противно. Противно, так как это начинает походить на травлю матерого зверя, случайно оставшегося одиноким. На травлю скопом, гуртом, без какого-либо риска. А что В. Брюсов остался одинок и почему он остался одинок — над этим следует призадуматься. В то время как вся почти наша виднейшая интеллигенция клацала зубами на советскую власть, В. Брюсов сумел вплотную стать с ней плечом к плечу, чувством поэта, влюбленного в жизнь и в неотвратимое обновление ее форм, почуяв в коммунизме жизнь будущего. Он не побоялся порвать со «своим кругом», не стал подсчитывать могущих отшатнуться поклонников, он с искренностью и жаром нового человека покинул все то, с чем, казалось бы, был связан всем своим прошлым. «Казалось бы…» Но на самом деле, может быть, никто сильнее Брюсова не ненавидел неряшливую, тупую, жирную буржуазию Москвы, покоренным зверем ползущую к ногам «своего европейца» – поэта (Асеев Н. Советская поэзия за шесть лет // Вопросы литературы. 1967. № 10 С. 180) [256].
Мои недоброжелатели говорят, что я «полевел», стал футуристом; а футуристы меня ругательски ругают, говорят, что я совсем «оправел», стал хуже академика (Из письма Брюсова к А. Б. Кусикову от 25 апреля 1923 года // Накануне. Литературная неделя. Берлин, 1923. 16 дек. № 507).
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
Наглухо застегнутый сюртук —
Метущийся и суетный покой.
Скрестивши мысли гибкою рукой,
Как будто бы оберегая грудь,
Он говорит. — И трепетно во рту
Лучится негасимо папироса.
Слова тяжелые и скользкие — как ртуть.
Вот вижу: — он в ЛИТО и в наркомпросе,
Вот председательствует он в СОПО,
Вот он читает об Эдгаре По,
О символизме, о Катулле…
Одним он враг — другим он нежный друг.
Лицо татарское, обрубленные скулы,
И наглухо застегнутый сюртук.
Порой улыбка остро от виска
В провал подбровный выморщит иглу,
И скалы скул, вздымаясь на оскал,
Его зажженные глаза уводят в глубь.
Походка мягкая: — плывет, крадется он,
Внезапно выхватом срывая легкий шаг,
Потом прыжок, потом волчковый бег…
День в памяти: дымилась пороша: —
Он промелькнул и сдержанный полон
Двум нелюбимым обронил на снег.
Еще один запомнился мне день,
Раскатныйдень,
Неповторимый день: –
Октябрь по улицам грузовиком грохочет,
С Ходынки молния: гремит чугунный гром,
И новый стих и новый твердый почерк
Выводит Кремль бушующим пером.
Мы встретились. — Он радостный и страстный,
Его глаза восторженно горели…
Да, это ты, суровый, строгий мастер,
Мой старший друг,
Любимый друг,
Валерий.
Александр Кусиков