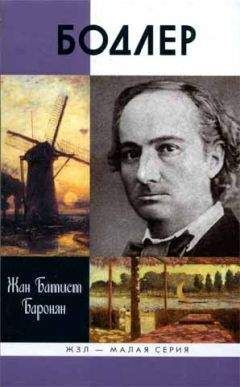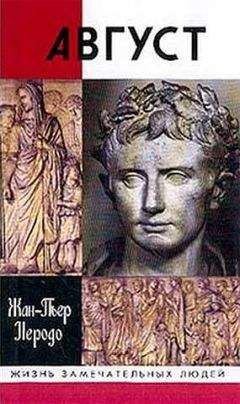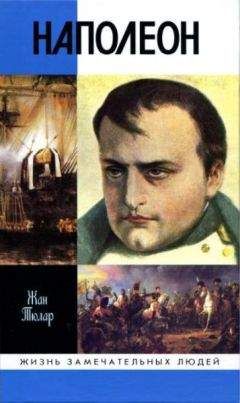Добавив, что фон Шлейхер и Штрассер были тесно связаны с заговорщиками и что он глубоко сожалеет о «случайном» убийстве фон Шлейхера, Геринг заявил: «Число жертв сильно завысили. Насколько помню, были убиты 72 или 76 человек, причем большинство – в Южной Германии»[700].
Но, не удовлетворившись таким смягчением фактов, Геринг решил выставить себя в выгодном свете. «Во второй половине дня [30 июня] я узнал, что были убиты люди, которые не имели никакого отношения к бунту Рёма, – продолжал он. – В тот же вечер в Берлин вернулся фюрер. Я узнал об этом поздно вечером или ночью[701] и уже в полдень следующего дня пришел к нему, желая добиться, чтобы расстрелы были прекращены немедленно».
Однако мы с вами знаем, что Геринг явился в тот день в рейхсканцелярию вовсе не за этим, но великий хвастун все равно решил наградить себя дипломом за твердую гражданскую позицию. «Заканчивая разговор о путче Рёма, – сказал он, – я хотел бы подчеркнуть, что беру на себя всю ответственность за меры, принятые в отношении Эрнста, Гейдебрехта и многих других людей в соответствии с приказами фюрера, которые я исполнил сам или передал. И даже сегодня я уверен в том, что действовал правильно и руководствовался чувством долга».
Затем доктор Штамер задал Герингу вопрос по поводу преследования Церкви нацистскими властями в Германии и в оккупированных ею странах. Геринг высокопарно ответил: «Я знал, что вначале в Германии некоторые священнослужители были отправлены в концентрационные лагеря. Дело пастора Нимёллера получило широкий общественный резонанс. […] Но многие пасторы и священники, активно критиковавшие режим, остались на свободе». Что касается оккупированных территорий, прибавил Геринг, там священников арестовывали не из-за того, что они были служителями Церкви, а потому, что они принимали участие во враждебных действиях по отношению к оккупационным силам.
Значит, все было закономерно… Однако после этого доктор Штамер перешел к крайне чувствительному для Геринга вопросу о преследованиях евреев. Как и следовало ожидать, его подзащитный не смутился. «После поражения Германии в 1918 году евреи приобрели очень большое влияние во всех сферах жизни германского общества, – заговорил он, – в частности в политике, в науке и в культуре. А особенно в экономике. […] Многие евреи не проявляли сдержанности, они стали принимать все более активное участие в общественной жизни. Они также заняли главенствующее положение в прессе […] и начали критиковать наши национальные принципы и наши идеалы. Следствием этого стало очень агрессивное защитное отношение к ним со стороны нашей партии».
Иначе говоря, национал-социалистская партия вовсе не боролась против евреев, она просто от них защищалась! Причем, оказывается, ее истинной целью было всего лишь «вытеснение евреев из политики, а потом и из культуры». Он, Геринг, лично вступался за «полукровок» перед Гитлером. Тот якобы был расположен отнестись к ним более мягко, «но только после войны». По поводу «Хрустальной ночи» подсудимый высказался весьма многословно. «Узнав о том, что Геббельс принял в этом активное участие, – сказал Геринг, – по крайней мере в качестве вдохновителя акции, я сказал фюреру, что не могу согласиться с тем, чтобы подобные вещи происходили в данный момент. В качестве руководителя четырехлетнего плана я в то время прилагал все силы для того, чтобы мобилизовать на его выполнение все секторы экономики. В своих обращениях к нации я просил граждан собирать для использования даже пустые тюбики из-под зубной пасты, каждый гвоздь, каждую железку. И не мог допустить, чтобы человек, не отвечавший за положение дел в этой области, мешал мне в выполнении тяжелой экономической задачи, уничтожая столько ценностей, с одной стороны, и вызывая такие нарушения в экономической жизни – с другой».
Таким образом, спустя восемь лет после всеобщего еврейского погрома Геринг все еще видел только экономическую сторону этого злодеяния, ставшего предвестием многих других зверств… Но, поскольку и здесь ему понадобилось обелить себя, этот развенчанный партийный руководитель поспешил добавить: «Я отклонил другие предложения, относившиеся к экономике, например такие, как ограничения в перемещениях и в выборе места жительства или закрытие курортных центров. […] Смягчения и поправки были внесены после моего вмешательства».
А как же «нюрнбергские законы»? Тут Геринг напрягся: «Я хочу подчеркнуть, что беру на себя всю ответственность за то, что принимал эти законы и организовывал контроль их исполнения, хотя действовал в соответствии с устными и письменными распоряжениями фюрера. Под этими законами стоит моя подпись, я их выпустил, следовательно, мне за это и отвечать. И у меня нет ни малейшего желания прикрываться приказом фюрера».
Далее Геринг с непомерной гордостью обрисовал свою роль в восстановлении военной авиации Германии. «Мой долг состоял в том, – заявил он, – чтобы вывести авиацию на самый высокий уровень. Я нес ответственность за ее перевооружение, за подготовку и состояние морального духа личного состава». Потом прибавил, что люфтваффе стало «решающим фактором», обеспечившим успех кампаний в Польше и во Франции. Что касается аншлюса, он также признал свою ответственность за это «на все сто процентов». Однако немного позже признался, что захват Праги в марте 1939 года «застал его врасплох». А впереди трибунал ждал еще один бравурный пассаж.
«Штамер: 23 ноября 1939 года Гитлер провел совещание, протокол которого приобщен к документу № 789, США-23, представленному трибуналу. Не могли бы вы кратко высказать ваше мнение об этом совещании?
Геринг: Фюрер собрал у себя высшее командование, чтобы сообщить о своем решении нанести удар [на Западе]. Это было обычной практикой для подобных случаев. При этом заранее ни один генерал не высказывал свое мнение. […] В ходе таких совещаний ни одному человеку не задавали вопрос, согласен он с военным планом или нет. Если бы какой-то генерал сказал: “Мой фюрер, я считаю, что ваши планы ошибочны” […] или “Я не согласен с этой политикой”, – это был бы вызов коллективному разуму. Это не значит, что генерала-смельчака расстреляли бы, просто у меня мелькнула бы мысль, что он тронулся в рассудке. Потому что невозможно руководить страной, если во время или накануне войны, решение о которой – неважно, верное или ошибочное – приняло политическое руководство, какой-нибудь генерал мог бы выбирать, будет он воевать или нет, останутся его войска на месте или пойдут в бой. Или же мог сказать: “Прежде мне надо посоветоваться с моей дивизией”. Тогда, возможно, одна дивизия пошла бы в бой, а другая, возможно, нет. Но в таком случае следовало бы отдать привилегию выбора простому солдату. Возможно, это позволит в будущем избежать войн: достаточно будет просто спросить у каждого солдата, хочет он вернуться домой или нет…»