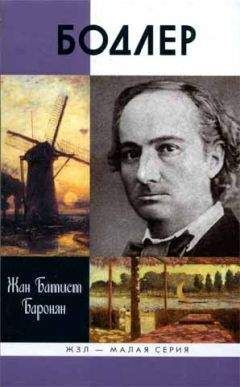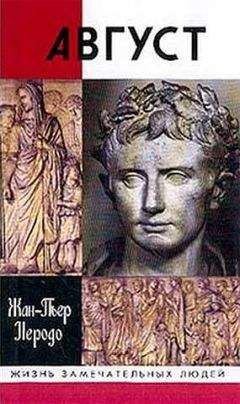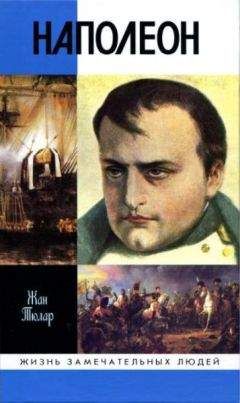На вопрос о нападении на Норвегию Геринг без колебаний ответил, что был с этим не согласен. Во-первых, потому что его поздно проинформировали о готовящемся вторжении; во-вторых, потому что план показался ему неудовлетворительным. Как бы там ни было, он не принимал активного участия в этой кампании. Мимоходом этот шведофил похвастался тем, что спас родину его «дорогой Карин», заверив фюрера в том, что «Швеция в любом случае останется нейтральной». И это сделало ее оккупацию бессмысленной. На этом председатель трибунала Лоренс объявил перерыв.
Показания Геринга впечатлили его соседей по скамье подсудимых, включая тех, кто относился к нему наиболее враждебно. «Это Геринг былых времен, когда с ним еще можно было разговаривать», – заявил фон Папен. Шахт признал, что Геринг «сказал одну правду, за исключением того, когда попытался оправдаться в принятии антисемитских решений». И даже Шпеер согласился с тем, что бывший рейхсмаршал «произвел хорошее впечатление на большинство подсудимых и адвокатов». Но при этом возмутился тем, что «подобный трус старается выставить себя героем». Вечером того же дня Геринг, куря баварскую трубку, скромно признался Гилберту: «Да, было нелегко… И все пришлось говорить по памяти. Вы бы удивились, узнав, как мало я сделал заметок для себя».
Заседание возобновилось утром 15 марта. Доктор Штамер сначала расспросил своего клиента о причинах вторжения в Бельгию и Голландию. Геринг без раздумий ответил, что «были сомнения относительно их нейтралитета», и прибавил: «Мы получили достоверные сведения о том, что бельгийская армия сосредоточила все свои силы вдоль границы с Германией». Но потом он быстро перевел разговор на Францию, сказав, что там Сопротивление «совершило кровавые преступления», в то время как оккупационные силы способствовали развитию французского сельского хозяйства, «в частности помогая осваивать находившиеся под паром земли. Это была мало кому известная польза от оккупации немцами Франции…»
После полудня Герингу предложили высказаться относительно вторжения в Югославию, бомбардировок Варшавы, Ковентри и Роттердама. А затем Штамер спросил: «Какова была тогда ваша позиция по вопросу о наступлении на Россию?»
«Геринг: Я сам вначале был застигнут врасплох. […] Затем […] сказал фюреру следующее: настоятельно и убедительно прошу вас в ближайшее время не начинать войну с Россией. […] Я высказал Гитлеру свое сомнение в отношении войны с Россией не потому, что […] имел в виду соображения международного права или другие соображения, а потому, что […] исходил исключительно из политической и военной обстановки. […] Я сказал ему: “Мы в настоящее время ведем борьбу с одной из самых больших мировых держав – Британской империей. […] Я абсолютно убежден в том, что рано или поздно вторая большая мировая держава – Соединенные Штаты – выступит против нас. […] В этом случае мы будем воевать с двумя самыми крупными мировыми державами. А в результате конфликта, который может сейчас возникнуть с Россией, к ним присоединится еще и третья большая мировая держава. […] Мы останемся фактически одинокими перед лицом всего мира”. […] Кроме того, продолжал я, если начнется война с Россией, значительную часть нашей авиации, больше половины, если не две трети, придется перевести на Восток. И тогда воздушная война против Великобритании быстро закончится. А все понесенные до этого потери окажутся напрасными. […] Еще более важным аргументом в пользу отсрочки наступления на Россию я считал то, что привлечение для этого огромных сил вынудит отложить разработанный мною план нападения на Гибралтар и на Суэц […], а также приостановить дальнейшее продвижение в направлении Касабланки и Дакара».
Когда был задан вопрос относительно «Зеленой папки», объемистого документа, содержавшего директивы по беспощадной экономической эксплуатации захваченных российских территорий, Геринг не смутился. Вначале он сказал, что если изъять из контекста несколько фраз, то может создаться ложное представление о сути дела. А потом принялся вещать: «Если вы начали войну против какой-либо страны и захватили ее экономику, то совершенно естественно, что вы станете поддерживать эту экономику лишь в той мере, в какой она обеспечит ваши стратегические интересы. Это само собой разумеется. […] Наши изъятия из российской экономики после завоевания восточных территорий казались нам естественными мерами. […] Так же действовала Россия, когда она оккупировала немецкие территории. Разница состоит в том, что мы не стали демонтировать до последней гайки и до последнего болта и увозить к себе все русские заводы, как это делается в настоящее время»[702].
Отвечая на обвинения в том, что вермахт обрек на голод российское население, обеспечивая собственное питание, Геринг заявил, что «войска не кормились за счет оккупированной страны, напротив, приходилось доставлять солдатам продукты питания из Германии, как и солому и овес для лошадей». А затем добавил: «Кстати, люди голодали и в Ленинграде. […] Но Ленинград был осажденной крепостью. А во всей истории войн я до сегодняшнего дня не нашел ни единого примера, когда осадившие крепость войска щедро кормили осажденных, чтобы те могли сопротивляться как можно дольше».
Допрос продолжался. «Штамер: Ограничивались ли осуществлявшиеся в России конфискации государственным имуществом или же затрагивали и частную собственность?
Геринг: Полагаю, что во время морозной зимы 1941/42 года немецкие солдаты вынуждены были кое-где отбирать у населения меховую обувь, валенки и козьи шкуры. Это вполне возможно, но что касается остального, там не было частной собственности, и следовательно, она не могла быть конфискована».
Адвокат перешел к еще более щекотливой теме.
«Штамер: Что значил для люфтваффе подземный рабочий лагерь “Дора”, о котором упомянул французский обвинитель?
Геринг: Я тут уже несколько раз слышу о лагере “Дора”. Конечно же я знал, что существовали подземные заводы около Нордхаузена, хотя сам там ни разу не бывал. Мне ничего неизвестно об условиях труда в этом лагере. Хотя описание их тяжести кажется мне преувеличенным[703]. […] Зато фактом является то, что я забирал из концентрационных лагерей заключенных, чтобы использовать их в авиационной промышленности. […] И сейчас, с учетом того, что теперь об этом знаю, мне кажется, что для них же было лучше работать и жить на авиационных заводах, чем в концентрационных лагерях. Само собой разумеется, им приходилось работать, к тому же в военной промышленности. Но то, что работа приводила к гибели людей, это для меня новость. Возможно, кое-где труд был изнуряющим. Но в моих интересах было заставить людей работать и что-то производить, а не расстреливать их».