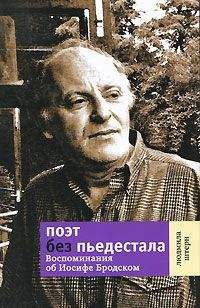Еле ноги унес. Вот тогда и прозвал Скиталией. Бесчувственному телу как раз тарабарщина не помеха, а вот пусть не чувственному, но коечто еще чувствующему – как то боль, как сейчас например… Короче, решил умереть все-таки в Америке, а в Скиталию вернуться в бесчувственном состоянии.
Вдруг, уже на исходе жизни, твой венецианский звонок. Неспроста, думаю. Звонок есть знак. Родной твой голосок оттуда как намек, что пора сматывать удочки. Я и сам знаю, что пора. Пора, мой друг, пора.
А тут еще этот чертов таракан, о котором обещал и вроде бы успеваю, хотя слева бо-бо и грудь как обручем и в спину, бля, отдает.
То есть никакой он не таракан, пусть и похож, но как сквозь лупу – гигантских таких размеров водяной жук, хрупкое и ломкое ископаемое, совершенно безвредное, хоть и чудище.
С Грегором Замзой знакома, да?
Он самый.
Вылитый!
Миссисипи их обожает, но без взаимности. Зацепляет одного когтем, переворачивает на спину, а потом сидит над ним, как Гулливер, и наблюдает как тот шевелит конечностями. Чистый садист, что говорить. Коту потеха, а каково лжетаракану? Как только тот затихает, Миссисипи его нежно так лапкой трогает – тот опять сучит своими ножками-ручками.
Только на этот раз я не выдержал, отнял у кота живую игрушку и – в окно. Взял с полки Кафку, читаю про Грегора Замзу, перевоплощаясь в него, как тот в жука. Овидиев этот рассказ про меня: мне тоже в тягость мое тело, которое давно уже и не мое. Теперь представь: внизу гости, гостья с косой у порога, я с Францем и Грегором за письменным столом, за окном ночь, вдруг Миссисипи вскакивает на подоконник и носом прямо в оконную сетку. Включаю свой полицейский фонарик, направляю луч в окно. Жуть! По другую сторону сетки, цепляясь конечностями, сидит этот тарканище из динозавровой эпохи и вращает на меня свои шарнирные шнифты. Приполз обратно, хочет домой. Может, у него здесь жена, детки. Как у меня. Щелкаю по сетке – он снова летит в преисподнюю.
Как вот-вот я. Думаешь, вернется? Имеет такое же право на этот дом, что и я. Хоть и не платит рент. Даже большее, потому что я – не жилец.
А где мой дом?
В Сан-Микеле? Если реэмигрировать, то только в Скиталию!
Господи, как я устал!
Живу через силу. По инерции. Стыдно, что отсвечиваю. Перед друзьями, перед врагами, перед будущей вдовой, перед будущей сиротой, перед собственными стишатами, которых разучился писать. Весь выложился. Да и то сказать: старомодное занятие в виду грядущего – точнее нагрянувшего – хама. Он же – варвар. Последние проблески сознания, секса и таланта. Жизненный мизер. Хорошо сохранившийся труп. Живой трупешник. Отходняк-доходяга. Какое там вдохновение – редкие, внезапные и короткие, не хватает на стишок, вспышки. То же – с сексом: не донести до цели. Что предпочтительней: Эрос без Венеры или Венера без Эроса? А когда ни того, ни другого? Отсутствие выбора.
Я свое отлюбил и отъе*ал. Соскочил с этого дикого жеребца. Живу на пределе. Пора делать ноги отсюда. Не осень, а смерть патриарха.
Думаешь, сам не знаю, что мысли, а тем более разговоры о смерти – бессмысленны, непродуктивны, постыдны. Именно поэтому мертвецам место в могиле, а не среди живых. А я умер задолго до своей преждевременой смерти. Б-г давно махнул на меня рукой. Кого хочет наказать, лишает разума, да? В моем случае, производительной силы. Разве это жизнь, если хер набирает силу только в минже – когда набирает, а когда не набирает? То же со стихом, которому ну никак не набрать силу, спасает остроумная концовка – или, наоборот, выдает с головой. Качество жизни – как и поэзии – снизилось настолько, что стоит ли тянуть лямку?
Были кризисные, застойные, тупиковые времена, от самоубийства останавливало только буриданово сомнение, в какой пальнуть висок.
Много на эту тему размышлял, а размышление отвращает от действия (привет Гамлету). В чем преимущество самоубийцы перед остальными смертными? Он точно знает, когда тю-тю, а мы тщетно пытаемся угадать. Как я, например. Или Пушкин, так и не отгадавший годовщину своей смерти. Самоубийство и есть преодоление этой тягостной неизвестности. Оракул или цыганка – паллиатив. Иное дело – когда берешь судьбу в собственные руки. Самоубийство есть посягательство на прерогативы Б-га. Как и онанизм. Единственное, в чем мы можем Его – нет, не победить – но преодолеть. Да, ценой жизни – собственной или потомства, но она в любом случае не бесконечна, а быстротечна. Ценой остатка, который есть неизвестность. В моем предсмертном возрасте хронологическая разница была бы и вовсе незначительной.
Но именно поэтому и отпала необходимость, когда сама la morte стучится в дверь. А потеря тяги и воли к жизни такова, что нет сил и на самоубийство. Лишен права на самоубийство – умер самым что ни на есть натуральным образом.
Помнишь, мы с тобой придумали совместный афоризм: умирать, как и жить, надо молодым. Самоубийством тоже надо кончать молодым.
Короче, помышлял – и размышлял – о самоубийстве, а однажды даже вскрыл себе вены, когда моя роковуха спуталась с моим дружбаном, в лучшие годы моей жизни. Вспоминаю о них с ностальгической нежностью и пускаю слезу, когда настал предсмертный беспросвет – от физической немощи до тотальной импотенции. Включая поэтическую. Выяснилось, что поэзия – дар таинственный, ненадежный, не на всю жизнь. В те самые худше-лучшие годы моей жизни был выход в поэзию, спускал пары, а теперь они скапливаются перед окончательным взрывом. Так и зовется в народе: разрыв сердца.
А теперь про Доссо Досси. Слыхала такого? А жаль. Он проиллюстрировал нашу с тобой сентенцию еще в XVI веке. Самый остроумный ренессансный художник. Пусть маргинальный, но я предпочитаю его всеядному Леонардо, слащавому Рафаэлю и даже Микеланджело, стишки которого предпочитаю его мраморам. А мой Доссо Досси – живописец-аллегорист. Очень хорош у него Зевс, рисующий – не отгадаешь! – бабочек! И ноль внимания на жалобы Добродетели, а та недовольна людьми и богами, что ее игнорируют или насмехаются. Между Зевсом-живописцем и ябедой-Добродетелью – Гермес, он прикладывает палец к губам, чтобы она не потревожила Мастера. Добродетель, представляешь, ждала приема у Зевса целый месяц, да так и не дождалась! По аналогии – Пушкин на полях статьи Вяземского:
«Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона». А какая прелесть, что Громовержец рисует не что-нибудь величественное, под стать ему самому, а именно бабочек.
Этот феррарец далеко за пределами своего XVI века, скорее в духе Оскара Уайльда или Россетти – не само Возрождение, а его стилизация в духе прерафаэлитов.
Само собой, не мог этот эзопоязычник пройти мимо хрестоматийного тогда сюжета «Три возраста». Сколько я навидался в Италии вариаций на эту вечно актуальную тему! Но лучше, чем у Доссо Досси – ни у кого! Хоть до третьего возраста я и не доживу, вот потому и западаю на этот сюжет. Феррарец самый пойнт схватил. Дети с одной и старики с другой стороны завидуще подглядывают за центральной сценой: молодые занимаются любовью. Именно: только молодой е*ущийся мир и стоит внимания. Думаешь, мне на том свете вместо мочи сперма стукнула в голову, тем более крантик один и тот же? Здесь нет ни мочи, ни тем более спермы – один мозг. Да, голова профессора Доуэля тире Бродского – как опыт метафизического существования.


![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)