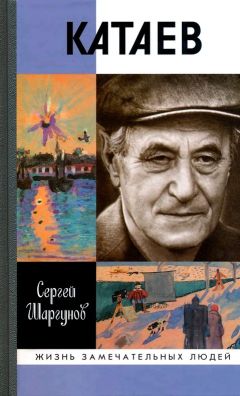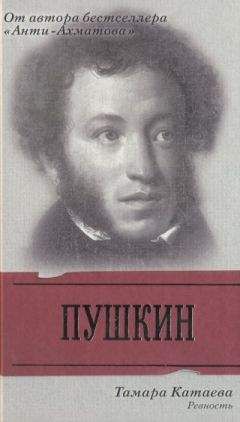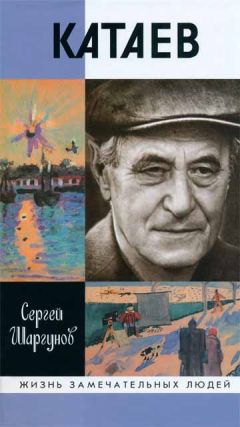В своих мемуарах Куняев приводит сбивчивое анонимное письмо, пришедшее в Московскую писательскую организацию летом 1980 года:
«Дела Курчавого Маркса бессмертны и сейчас, преклоняясь перед ним, миллионы людей совсем не интересует шепелявил он или картавил. И когда он писал свой великий лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», то он не думал, что его заменят на «Бей жидов, спасай Россию», а по-вашему, по-интеллигентному, как написано в вашем бреде сивой кобылы «Будьте Вы все прокляты». Троцкизм хоть и безусловно ошибочное течение, но в таком тоне о нем писать просто глупо и изображать евреев как гитлеровцев это значит быть ими самому… И хоть у вас вполне арийское лицо, через 50–100 лет вы канете в вечность, а они, губастые, носастые, останутся в веках пока будет существовать этот мир…»
В этой анонимке — боль, как от ожога. Крик оскорбленной женщины, превратно истолковавшей прочитанное. Но письмо показательное… Слишком многие в этот раз не поняли Катаева…
В июле 1980 года литератор Семен Резник посетил на переделкинской даче Анатолия Рыбакова. «В качестве примера того, как быстро в литературе набирает мощь антисемитская струя, я назвал только что появившуюся повесть Валентина Катаева «Уже написан Вертер…». Назвал, и тотчас пожалел о своей опрометчивости: ведь у Рыбакова с Катаевым должны были быть давние отношения, а какие именно, я не имел понятия. Куда может повернуть разговор, если их связывает многолетняя дружба и он посчитает нужным «заступиться» за товарища! Но Рыбаков очень резко отозвался о Катаеве, сказав, что хотя они соседи по даче и нередко встречаются, но он давно уже не подает этому подонку руки».
В ноябре того же года Резник в письме в «Литературную газету» призывал к бдительности в связи с «разгулом литературного хулиганства на почве национализма и шовинизма». К погромщикам, утверждал он, примкнул и Катаев, «что наиболее ярко выразилось» в его повести: «Это повесть о революции, причем, под соусом сновидений и галлюцинаций, революция представлена как ужас и изуверство, творимые евреями, то есть в полном соответствии с тем, как рисовали ее самые крайние черносотенные идеологи вроде Дубровина, Пуришкевича, Маркова Второго». К письму Резник приложил рассказ-пародию «Коленный сустав»: «Маузер стрелял в посла с местечковым акцентом. Ради Льва Давидовича Наум готов был не только залить кровью всю необъятную Землю и весь бесшумный хоровод светил, но даже доставить секретное письмо[162]. Наум картаво пакостил везде, где только мог. И где не мог… Дима стоял на коленях возле тахты, а доктор со срезанными погонами гладил его по колючим волосам и умолял бежать от гиблых мест, где все говорят с местечковым акцентом… В то грозное время, эру, эпоху Я был увлечен романтикой революции и страшно боялся попасть в выложенный закопченным кирпичом подвал губчека… Как мятежный парус на лазури теплого моря и холодного неба, Муза моего Я наполнялась ласковым ветерком безупречно славянско-арийских образов Гаврика и Родиона Жукова, Вани Солнцева и капитана Енакиева…»
В ответ Резнику позвонил зам главного редактора Евгений Кривицкий.
«— Да, вы правы, но есть мнение, что эту повесть лучше вообще не критиковать. Чтобы не привлекать к ней внимания.
— Чье это мнение? — спросил я.
— Ну, понимаете, есть такое мнение…»
Вскоре Резник эмигрировал в США и устроился на «Голос Америки». В 1986-м в нью-йоркской газете «Новое русское слово» он не без ехидства делился слухом: «У Катаева были в связи с выходом «Вертера» неприятности: в закрытом ателье Литфонда ему отказались вне очереди сшить пыжиковую шапку».
После появления повести доктор философских наук Соломон Крапивенский направил письма в «Литературную газету» и «Новый мир»: «Меня как читателя и воспитателя молодежи крайне тревожит то молчание, которое складывается вокруг повести В. Катаева… Подчеркну только, что, на мой взгляд, такого контрреволюционного и антисемитского по своему замыслу произведения, маскируемого в то же время под борьбу с врагами революции, наши журналы еще никогда не печатали».
Но вынужденная немота сковала, повторимся, и тех, кто повесть принял и желал похвалить.
«Когда он прочитал «Вертера» маме, она возмутилась шепелявыми евреями: надо убрать», — рассказала мне дочь Катаева Евгения, чей тогдашний муж Арон Вергелис, между прочим, писал на идише.
А дети не поняли, что тут такого — «Папа, оставь». Эстер даже перестала с ним разговаривать. Но он все равно не вычеркнул: «Эста, ну при чем здесь евреи? Я просто пишу, как было».
По утверждению Бориса Панкина, сидевшего в застолье с Катаевыми, дети тоже не приняли повесть и «нападали на папочку».
«Нет, невозможно быть писателем! — вырывается у Катаева вдруг. — Они все от тебя чего-то хотят. Но ведь это же правда, правда… И еще — как я могу быть антисемитом, если у меня жена еврейка и, стало быть, мои дети наполовину евреи. Вот, полюбуйтесь-ка на них».
«Мы только кому-то снимся»
«В каждом человеке с детства живет война», — сказал Катаев Панкину и вспомнил о недавней встрече на прогулке «с пятилетним существом, которое грозно размахивало игрушечным пистолетом и расстреливало всех и вся вокруг».
15 января 1982 года Владимир Карпов записал в дневнике: «Позвонил Катаев, ему нездоровится, попросил приехать на обед к нему в Переделкино.
— Приезжайте обязательно, кроме хорошего обеда, отдам свой новый «Юношеский роман».
Эстер Давыдовна действительно приготовила «парадный» обед — телятина, запеченная в духовке. На улице снег, а на столе салат из свежих огурцов и помидоров…
Вручая мне свою рукопись после обеда, Валентин Петрович сказал:
— Я давно хотел написать роман о войне, еще после Первой мировой собирался. Но меня опередили Ремарк, Ромен Роллан, Олдингтон и другие. Я их читал, не хотел повторяться, отложил эту тему. И вот недавно я обнаружил свои письма той поры, вернулись юношеские воспоминания. Очень необычные юношеские мысли — я хотел войны! Там геройство, увлекательные события! Так начиналось, к чему я пришел — читайте сами…»
«Юношеский роман» вышел в том же году в номерах 10–11 «Нового мира». Письма генеральской дочке Миньоне (Ирен Алексинской) от вольноопределяющегося Александра Пчелкина (Валентина Катаева) из действующей армии. Достаточно заглянуть в архивы — почти все эти сюжеты и наблюдения присутствовали в его фронтовых корреспонденциях, но теперь (рука мастера) все обрело новое измерение, оказалось тонко прорисовано, расцвечено, психологически углублено, усложнено деталями, а сквозным сюжетом военного романа в письмах «дорогой Миньоне» стала тоска по другой, по-настоящему дорогой сердцу — Ганзе Траян (Зое Корбул), невысокой и кареглазой, с «незначительным и незапоминающимся» облачком лица: «Если я и был влюблен в Миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души безнадежно и горько любил Ганзю… Одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая неописуемо никакая, неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий».