— Сашка, пойди купи чего‑нибудь поесть.
— Хорошо, — соглашается он.
Он уходит. На полтинник можно много чего купить. И колбасы, и сыру, и хлеба…
Через полчаса он является сияющий и довольный.
— Купил?
— Купил.
— Ну, давай.
Он разворачивает свёрток, и… в нем оказывается огромная репа, несколько кроваво-красных помидоров, зеленые кабачки, букет жёлтых листьев и пустой жестяной бидон из-под керосина.
— Сашка, что это? — в ужасе спрашивают товарищи.
— Это… Это для натюрморта! Смотри, как здорово будет. — И он торжествующе ставит на стол бидон и окружает его помидорами… и репой. — Вот! Помнишь, у Сезанна в натюрморте салфетка стоит крахмальная? А ведь как стоит! Никуда от неё не уйдёшь. Я этот бидон так раздраконю! Вот увидишь.
И он уже начинает ставить натюрморт.
— Осел! Кретин! Дегенерат! — в бешенстве кричу я. — А жрать мы что будем?
Смешно? Нет, совсем не смешно. Потому что все остались голодными. Ничего ему нельзя было поручить. Но зато писал он хорошо!
Затем приехал ещё киевлянин, Исаак Рабинович, смуглый, черноглазый, курчавый, с лицом библейского отрока, молчаливый, застенчивый и сосредоточенный, часами замиравший перед картинами больших мастеров то в Третьяковке, то у Щукина и писавший оригинально и талантливо, своим почерком.
Много прибивало к нашему берегу художников, которых никто не знал, молодых людей, мечтавших стать актёрами, непризнанных поэтов с удручающими стихами, мелких репортёров из газет, студентов, курсисток, учеников и учениц все тех же знаменитых зубоврачебных школ, где все были главным образом артистами и лучше разбирались в душевной боли, чем в зубной.
Жить стало уже легче. Жили, как говорится, компанией. Ходили в дешёвые студенческие столовки, проникали «зайцами» на вечера всяких землячеств, ухаживали за курсистками, декламировали, пели, читали, спорили, гуляли…
Когда же из поездки в Москву вернулась моя сестра, актриса Надя, мне стало совсем хорошо. Поселились мы с ней в Козицком переулке, в доме Бахрушина. Как ни странно, но через столько лет, вернувшись на родину, я получил квартиру в том же доме, только в другом подъезде.
С сестрой мы зажили дружно. Она очень любила меня и верила в то, что я «ещё буду человеком». Мы снимали очень скромную квартирку и даже держали кухарку — «за одну прислугу», как тогда говорили, то есть она и комнаты убирала, и обед готовила. Это были лучшие дни моей московской жизни. Тем не менее я все ещё ничего не делал, не зная, куда себя приткнуть со всеми своими способностями. Ходил по театрам, бегал на лекции, бродил по Третьяковке и Щукинской галерее, торчал то в кафе у Филиппова, то в других кафе.
У меня завелись два новых друга — студенты Володя Лазаревич и Женя Хазин. Они были хорошо воспитаны, живо интересовались всем, что было нового в науке, литературе и искусстве, и, как ни странно, тоже верили в меня. Мы вместе посещали Московский университет, где я был вольнослушателем, ходили на лекции, совершали экскурсии по Москве, знакомясь с её стариной, бегали на лыжах по Москве-реке, по воскресеньям ходили на Воробьёвы горы — кататься на бобслеях — и, если были деньги, даже завтракали иногда там же в ресторане у Крынкина.
Кроме этого, мы выступали в разных кружках — то литературных, то драматических. Я, помню, даже ставил какую‑то блоковскую пьесу. Появились в нашей компании две красивые девушки — Лиза и Машенька, дочери доктора Воронова. Володя ухаживал за старшей, Лизой, на которой впоследствии и женился, а я крутил голову младшей, Машеньке.
К сожалению, сестра моя Надя не могла подолгу жить в Москве — ей приходилось уезжать с труппой в длительные поездки; тогда я переселялся к Жене и Володе. Они снимали вдвоём довольно большую комнату, и я спал у них на диване. Их общество во многом оказало на меня благотворное влияние. Я меньше стал воображать о себе, больше учиться, проводил целые дни в университете или в Румянцевской библиотеке. От моей надменности и непонятности вскоре не осталось и следа.
Все же пробиться — обратить на себя внимание общества — мне никак не удавалось. Все мои достижения ограничивались успехами у курсисток, молодых студенток да ещё у купеческих девиц, которые томились в своих замоскворецких «теремах» и жаждали «просвещения».
На масленицу, на пасху и по большим праздникам нас, молодёжь, обязательно приглашали в такие купеческие дома, где закармливали блинами и кулебяками. Одной такой девице — совершенной психопатке, над которой дрожали любящие родители, — я даже давал «уроки сценического искусства» за десять рублей в месяц. Продолжалось это довольно долго — около года, и девица стала было уже делать кой-какие успехи, но, к сожалению, окончательно свихнулась, и её пришлось отвезти в лечебницу…
Знакомства у нас были самые разнообразные. Каким‑то непонятным образом мы познакомились с Борисом Филипповым — сыном известного всей Москве булочника. Это был неисправимый кутила, стоивший своему отцу немало денег, но весьма неглупый, весёлый и приятный человек. Учился он за границей и говорил на трёх языках. Языки эти ему сильно пригодились впоследствии. После революции он попал в эмиграцию. Я встретил его в Нью-Йорке. Он служил портье в отеле «Ансония», где мы, русские артисты-гастролёры, любили останавливаться «из патриотизма» — портье был наш, русский.
Как‑то на масленой Борис пригласил нас к себе на блины. Жил он на Тверском бульваре в особнячке с балконом на улицу. К часу дня мы собрались у него в гостиной. Он рассказывал нам про маленького медвежонка, которого ему недавно подарили и который вертелся тут же, под ногами. А рядом в столовой был накрыт великолепный стол, уставленный балыками, винами, водками, хрустальными вазами с икрой и пр. Один вид этого стола вызывал аппетит необычайный. Разговор шёл о том, что медвежонок иногда выходит на балкон и начинает там делать всякие выкрутасы, собирая огромную толпу зрителей, причём Борис заметил, что у медвежонка все недостатки актёра: он любит успех и тщеславен до предела. Поэтому он целый день на балконе. Пока мы смеялись над этой характеристикой, тщеславный медвежонок, соскучившись, ушёл в столовую, взял за конец скатерть, которой был накрыт стол, и пошёл с ней на балкон показывать своё искусство зрителям.
Можете себе представить эту картину? С ней можно сравнить только «Гибель Помпеи» Брюллова.
Все погибло! Все!
Но Филиппов отвёз нас всех к Тестову, где и накормил «по-московски»…
Среди знакомцев наших были два журналиста — Коля Вержбицкий и Женя Хохлов. Много дней и главным образом ночей провёл я в их обществе, но где они работали и на что они жили, так до сих пор и не знаю. Парни они были задушевные и, главное, большие мастера по части раздобывания денег.


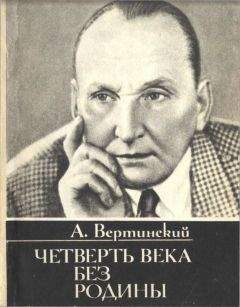
![Анатолий Добрынин - Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)]](https://cdn.my-library.info/books/32820/32820.jpg)

