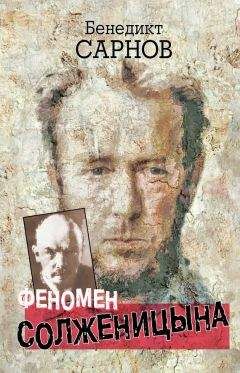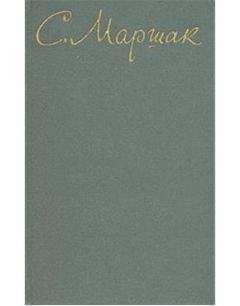Твердый крупный Столыпин стоит, опершись на барьер, в белом сюртуке.
Тонкий узкий убийца извивается по направлению к нему весь в чёрном.
«Столыпин стоял, беседовал...», «Столыпин стоял...», «Столыпин стоял всё один...», «Столыпин поднял левую руку – и ею мерно, истово, не торопясь, перекрестил Государя»...
Во всей сцене убийства Столыпин описывается простыми личными предложениями: подлежащее – сказуемое, имя– глагол.
Приближающийся убийца лишён существительного имени: «По нем шел, как извивался, узкий» и т. д.
Взглянем ещё раз на эти четко прочерченные оппозиции:
...
Отчётливо прорисовывается мифологема противоборства Добра и Зла (причём последнее по христианской традиции характеризуется признаком бестелесности, бесхребетности), Света и Тьмы, Креста и Змия... (Там же. Стр. 306–307)
И вот – итог. Казалось бы, сам собой напрашивающийся, единственно возможный, а на самом деле хорошо подготовленный автором, тонко им срежиссированный вывод:
...
...В самом образе змеи, смертельно ужалившей сотворяющего крестное знамение славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель со своей любимой книгой, «Протоколами сионских мудрецов»:
«Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью Символического Змия, главу которого должно было составлять посвящённое в планы мудрецов правительство евреев (всегда замаскированное даже от своего народа), а туловище – народ Иудейский. Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий этот подтачивал и пожирал (свергая их) все государственные, не-еврейские, силы по мере их роста».
Я совершенно уверен, что такие читатели у Солженицына есть.
(Там же. Стр. 315)
В этом-то уж можно не сомневаться. И на этой последней фразе автору бы и поставить точку. Но он не может этого себе позволить. Ведь в этом случае сразу развалилось бы всё его – и без того хрупкое – построение, согласно которому, при всей своей очевидной антисемитской составляющей, Богровско-Столыпинская линия «Августа Четырнадцатого» является несомненным художественным достижением большого писателя, каким, несмотря ни на что, остаётся для него Солженицын.
И вот, там, где надо бы поставить точку, он ставит запятую и продолжает:
...
Я совершенно уверен, что такие читатели у Солженицына есть, как найдутся и такие, кто станет утверждать, что еврейство Богрова – случайный фактор, не имеющий отношения к гибели Столыпина.
За антисемитское прочтение его книги Солженицын несёт не больше ответственности, чем Шекспир за подобную трактовку «Венецианского купца». Пьеса правдива, потому что еврейское ростовщичество было фактом жизни, и гуманистична, потому что в ней с большой поэтической силой сказано: «И еврей – человек», – революционно смелое утверждение по тем временам, от которых мы не так уж далеко ушли.
У Солженицына «и Богров – человек». Как ни отвратителен Богров своему автору, но даже этот пошляк и убийца с вывихнутыми представлениями о морали являет собой какой-то человеческий тип, полярный Солженицыну, но принадлежащий человечеству.
(Там же. Стр. 315–316)
Вот уж – чего нет, того нет!
А что касается шекспировского Шейлока, то он тут и вовсе ни при чем.
...
Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой – скуп – и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен.
(А. С. Пушкин. Table-talk)
Солженицыну с его Мордкой Богровым не то что до шекспировского Шейлока, но и до мольеровского Гарпагона – как до неба.
В Богрове его интересует только одно: то, что тот – еврей. Он нужен ему только в этом своём качестве, и больше ни в каком. И Лосев это прекрасно знает. Мало того – убедительно и неопровержимо это доказывает, обнаруживая при том доскональное знание предмета:
...
С самого начала имя Богрова в повести окружено почти исключительно еврейскими именами. Наум Тыш, бр. Городецкие, Саул Ашкинази, Янкель Штейнер, Роза 1-ая Михельсон, Иуда Гроссман, Хана Будянская, Берта Скловская, Шейна Гутнер, Ровка Бергер, Эндель Шмельте – щедрой рукой набросаны на первые страницы рассказа о Богрове. Нееврейских имен вокруг Богрова почти нет, тогда как в документах их больше половины: Сальный Емельян Емельянов, Макаренко Лука Гаврилов, Ипатов Евстафий Михайлов, Базаркин Степан Алексеев, Просов Афанасий...
В документальных своих источниках Солженицын пренебрегает кое-каким красочным материалом, за который ухватился бы любой писатель. Например, удручающе пошлыми стихотворениями Богрова: «Твой ласкающий, нежно-чарующий взгляд, Твои дорогие черты Воскресили давно позабытые сны... Мне не зажечь холодные сердца, Ах, как прожорливый паук, Из сердца кровь сосет гнетущая тоска...»... Для Солженицына не так важно, что Богров пошляк, как то, что он еврей.
(Там же. Стр. 314–315)
«Что бесспорно – это виртуозное писательское мастерство», – говорит Лосев, рассуждая о художественных достоинствах солженицынского «Августа».
Прочитав это, я – уже в который раз! – вспомнил любимую мысль Л. Н. Толстого, которую он приписал одному из самых любимых своих персонажей:
...
– Да, удивительное мастерство! – сказал Вронский. – Как эти фигуры на заднем плане выделяются! Вот техника, – сказал он, обращаясь к Голенищеву...
Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова... Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно .
(Л. Н. Толстой. Анна Каренина)
Лосев попытался показать (и даже доказать), что Солженицыну в его «Августе» это удалось.
Нетрудно было предположить, что эта его попытка вызовет множество недоумений, несогласий, возражений. Можно было даже предвидеть, что реакция на неё будет весьма бурная. Но ни автору статьи, ни его герою в самом страшном сне не могло привидеться, какой грандиозный вызовет она скандал.