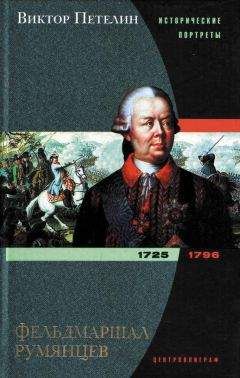Станислав Куняев относит себя к «легковоспламеняющимся», но как долго созревало его национальное самосознание в 70-х годах, можно проследить по его дневниковым записям 1971 – 1977 годов. И только в конце 1977-го произошло событие, «властно повлиявшее» на его «чувства»: погиб Эрнест Портнягин. «Когда мы хоронили его в запаянном цинковом гробу на Хованском кладбище, я подумал: «Вот так и со мной может произойти. Несчастный случай – и все годы, которые ты готовил себя к большому делу, к борьбе за судьбу русской культуры и, может быть, за судьбу России, – все пойдет псу под хвост. Надо действовать, пока есть силы, пока не поздно» (I. С. 192).
По всему чувствуется, что автор даже не понимает, что эти размышления ставят его в смешное положение: мужику сорок пять лет, семнадцать из них он прожил в Москве, эпицентре бушующих литературных страстей, а только сейчас он понял, что нужно выступить на дискуссии «Классика и мы», устроенной секцией критики Московской писательской организации, а потому председательствовали Евгений Сидоров и Феликс Кузнецов. И секретарю Московской писательской организации Станиславу Куняеву не нужно было дожидаться звонка от Вадима Кожинова, чтобы принять участие в дискуссии. Другое дело – «я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней». И что же Станислав Куняев бросил в лицо этой «мафии»? Прочитал сборник «Воспоминания о Багрицком», в котором авторы воспоминаний сравнивают Эдуарда Багрицкого с Тургеневым, Фетом, Буниным, называют его «классиком», «гением», продолжателем русской классической литературы. И что же? Друзья покойного говорят, что «Багрицкий преданно любил Пушкина – как и подобает русскому поэту», сравнивают Незнакомку Багрицкого с «Незнакомкой другого великого лирика», находят, что «Багрицкий в своем подходе к животному миру» «сродни» «безымянному автору «Слова о полку Игореве». Я бы сказал: и пусть сравнивают, и пусть называют гением, таковы их суждения и оценки. Станислав Куняев тоже считает, что Багрицкий – яркий, талантливый поэт, но его отношение к труду, к «маленькому» человеку, к природе совсем иное, чем у Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого... «Мемуаристы пишут, – говорил Станислав Куняев, – что по чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, от автора «Слова» до Фета и Бунина. Но ведь это не совсем так...» И далее оратор приводил строчки из Багрицкого, из которых делал вывод: Багрицкому природа «была совершенно чужда», «не любил Толстого»...
Вспоминаю эту речь Станислава Куняева в Большом зале Центрального дома литераторов, слушали сначала с интересом, как и речи всех выступавших, но потом смертная скука разлилась по залу, все-таки собрались здесь преимущественно люди грамотные, писатели, ученые, а тут слышим скучнейший анализ стихов Багрицкого, в итоге которого оратор приходит к выводу, что в творчестве Багрицкого есть такие мотивы, которые «не просто не в традиции русской классики, но и вообще литературы», а поэма «Февраль» «никоим образом не соприкасается с пафосом русской классики. Это поистине авангардизм, но уже в нравственной сфере» (I. С. 206).
Председательствующий Евгений Сидоров резонно напоминал оратору, что мы собрались не на обсуждение творчества Багрицкого, но Станислав Куняев, преодолевая сопротивление президиума и зала, дочитал свое выступление до конца. И вроде бы выступление как выступление, ничего, повторяю, нового он нам не сообщил, умно и тонко проанализировал некоторые мотивы творчества Багрицкого и показал, что некоторые мотивы Багрицкого как бы не соответствуют гуманистической традиции русской классической литературы. Ведь Олег Михайлов в статье «В исканиях гуманизма», уже упомянутой здесь, «безгуманным поветрием», «эдаким моральным релятивизмом» назвал появление целого ряда произведений выходцев из Одессы, где «полюса» добра и зла смещены. Олег Михайлов противопоставляет этому «безгуманному поветрию» произведения А. Неверова и А. Платонова, пронизанные «нежностью и состраданием к человеку». Есть у О. Михайлова и о Багрицком. Признавая его немалый поэтический дар, Олег Михайлов утверждает, что «многие стихи» Багрицкого «буквально перенапитаны неодухотворенным сексом», «неудовлетворенностью вожделений», «весеннее чувство воспринимается поэтом как тотальный половой инстинкт». И приводит убедительные примеры...
В статье Олега Михайлова говорится и о том, что Багрицкий, как и Бабель, Олеша и другие писатели – выходцы из Одессы, свирепо призывали, следуя за Троцким, искоренить черты «старой» России, «в которой им виделось только вырождение, зверство погромов и беспросветный мрак религии», упоминает об их неприятии есенинского творчества, его будто бы «подберезную, бабье-сарафанную, иконописную старообрядческую музу».
Юрий Олеша был «кумиром моей юности», признается Олег Михайлов. Покоряла метафоричность, меткость уподоблений. Все это «казалось верхом совершенства». И только в зрелом возрасте возник вопрос: «во имя чего?» И к чему все это привело – «самоцельная метафоричность», «литературная изощренность», «книжная опытность», «эстетизация предметов»? К забвению гуманистических традиций русской литературы, к отказу от таких понятий, как «совесть», «добро и зло», «человечность», «мораль». Отдавая должное литературной одаренности писателей – выходцев из Одессы, Олег Михайлов с горечью констатировал, что их искусство «на деле оказывалось лишь слегка перелицованным декадансом, осколками богемно-анархических школ и школок» (см.: Михайлов Олег. Верность. Родина и литература. М.: Современник, 1974).
Книга вышла массовым тиражом в 25 тысяч и вскоре стала библиографической редкостью. А перед этим вышла моя книга «Россия – любовь моя» (Московский рабочий, 1972) 40-тысячным тиражом и «Родные судьбы» (Современник, 1974 и 1976) массовыми тиражами тоже быстро разошлась. Обе эти книги как бы подводили итоги литературной борьбы за новое литературное направление, на страницах книг писателей этого направления возник образ русского человека во всей неповторимости его национального характера и судьбы...
Так что Станислав Куняев, принимая участие в дискуссии «Классика и мы», не высказал ничего нового, нет здесь никаких прозрений и откровений, особенно таких, за которые могли бы преследовать опричники из ЦК КПСС – блюстители идеологического порядка в то время. Брешь была уже пробита многочисленными предшественниками Станислава Куняева, в том числе и авторами «Молодой гвардии» и «Советского писателя», где в конце 60-х годов вышли книги Евгения Носова, Василия Белова, Виктора Астафьева...
Нет нужды сейчас говорить о том, прав или не прав оратор. Хочется только сказать, что Станиславу Куняеву не следует делать вид, что, принимая участие в дискуссии, он словно выходил на эшафот, понимая чудовищные последствия для своей жизни. Другое дело, что он, выступая, обозначил таким образом переход из одной группы в другую, противоборствующую с выпестовавшей его как поэта группой Бориса Слуцкого, Александра Межирова, Евгения Винокурова, с которыми он дружил, о которых он писал, которые его поддерживали в редакциях газет, журналов, в издательствах. И напрасно Станислав Куняев говорит о том, что рабочим секретарем Московской писательской организации он стал «случайно». Нет, в такие «кресла» случайно не попадают... Ясно, что в это «кресло» он попал под давлением той группы, к которой он принадлежал в то время.